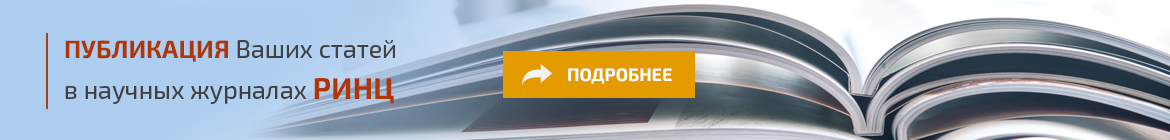ГЕРОЙ РУБЕЖА ВЕКОВ В «ДНЕВНИКЕ ПРОВИНЦИАЛА В ПЕТЕРБУРГЕ» М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Конференция: VI Студенческая международная заочная научно-практическая конференция «Молодежный научный форум: гуманитарные науки»
Секция: 5. Литературоведение

VI Студенческая международная заочная научно-практическая конференция «Молодежный научный форум: гуманитарные науки»
ГЕРОЙ РУБЕЖА ВЕКОВ В «ДНЕВНИКЕ ПРОВИНЦИАЛА В ПЕТЕРБУРГЕ» М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Даже не очень вдумчивый читатель, начав читать «Дневник провинциала», заметит (а если не заметит, то смутно почувствует), что общее настроение этого произведения парадоксальным образом созвучно нашей современности. Если читатель даст себе труд задуматься над природой этого сходства, он увидит, что ничего парадоксального тут нет. Салтыков-Щедрин, действительно, современен. Прежде всего, конечно, благодаря своему таланту писателя и публициста, который ставит его творения над временем, но никогда вне его. Однако нам представляется, что эта удивительная современность проистекает еще и из огромного сходства двух эпох.
«Понятно, что мы разочарованы и нигде не можем найти себе места. Мы не выработали ни новых интересов, ни новых способов жуировать жизнью, ни того, ни другого. Старые интересы улетучились, а старые способы жуировать жизнью остались во всей неприкосновенности», — так характеризует свое время герой «Дневника». Смычка двух эпох, распад многовековых традиций, отказ от идеалов предков — и растерянность перед «новой» действительностью, размытость нравственных ориентиров, кризис социальных и частных целей — все это настолько роднит 60-е гг. XIX века с первой четвертью XXI, что непопулярность, «немодность» Щедрина вызывает оправданное недоумение. Приведенная цитата могла бы появиться в любом современном аналитическом издании, и не будь указано авторство, никто не усомнился бы отнести ее к сегодняшней России. Впрочем, как и вот эта: «Нам остается нести иго жизни без всякого сознания, что мы что-нибудь можем, и, напротив того, с полным и горьким сознанием, что с нами все совершить можно. Мы так и поступаем».
Не попыткой ли преодолеть это же самое чувство, вернуть себе утраченное ощущение собственной значимости, включенности в исторический процесс, является резкий рост гражданской активности в современной России? Не одинакова ли природа сегодняшних митингов и внутреннего протеста героя Щедрина? «Дедушка Матвей Иваныч обидел многих — и жил! Я, его внук, клянусь честью, именно мухи не обидел — и чувствую себя находящимся от жизни в отставке! За что?»
На наш взгляд, в своем герое Салтыков-Щедрин воплотил еще неназванное (названо он будет значительно позднее) явление — оно не только не названо и не осмыслено, оно еще даже не прочувствовано не то что обществом, но и литераторами. Речь, конечно, идет о теме «потерянного поколения», которая будет осмыслена только в 20-е гг. XX века. Возьмем на себя смелость утверждать, что Щедрин одним из первых (а возможно, и первым) угадал это особое общественное настроение, которое, в чем мы также убеждены, является принадлежностью не одной современной Хемингуэю и Ремарку эпохи, но любого так называемого «безвременья» в истории, возникающего при геополитических и социальных катаклизмах. Именно в такие периоды растерянности и социальной дезориентированности общества начинается процесс «слоняния» — один из метких неологизмов автора, — потому как «все мы хотим жить именно тем самым способом, каким жил дедушка Матвей Иваныч, то есть жить хоть безобразно (увы! до других идеалов редкие из нас додумались), но властно, а не слоняться по белу свету, выпуча глаза».
Герой «Дневника провинциала» представляется нам сродни герою «Записок из подполья» Ф.М. Достоевского. Их роднит общее протоэкзистенциальное восприятие жизни: они, смотря на поток жизни из своей скорлупы, видят и критически оценивают все несовершенства окружающей их действительности, однако вследствие инертности, «нравственной рыхлости» позволяют этому потоку произвольно увлекать себя. Достоевский видит причину этой индифферентности в извечном противоречии разума самому себе, в парализующей деятельность мысли.
«Записки из подполья» были написаны и изданы почти на десять лет раньше «Дневника провинциала», и сам текст «Дневника» дает нам основания думать, что Щедрин не только читал «Записки», но что они оказали на него определенное влияние. Более того, сам текст «Дневника» навел нас на мысль о том, что автор, осознанно или бессознательно, вступает с Достоевским в полемику о причинах, породивших «подпольных людей». Речь, прежде всего, идет о прожекте «О переформировании де сиянс академии», где Салтыков-Щедрин последовательно развенчивает мысль о том, что знание как таковое может парализовать в человеке жизненные силы и что если «вельможа всего допытывается», то «вследствие того, приходит в меланхолию, а со временем и в истощение сил». Хотя в «Дневнике» автор чаще прибегает к художественному методу иронии, не возводя насмешку до сатиры, прожект о «де сиянс академии» он доводит до абсурда: для устранения всех недоразумений якобы необходимо раз и навсегда постановить, что только «те науки распространяют свет, кои способствуют выполнению начальственных предписаний», а человеку для благополучия и безмятежности жизни «требуется лишь свежее сердце и не вполне поврежденный (прим. — очевидно, науками) ум».
Салтыков-Щедрин дает своей объяснение уходу в духовное «подполье» умных, деятельных по природе своей людей. Реформа крепостного права запустила механизм распада государства — это невысказанная напрямую мысль оформляется автором в неологизм «обкладывание самих себя». Герой рассуждает о том, что ни один класс, ни одно сословие в истории, пребывая у власти, не вводило реформ, которые бы ей вредили согласно с элементарной логикой защиты от самоуничтожения. Что же заставляет нас своими руками запустить механизм самоуничтожения? — задается вопросом герой.
Он (а с ним, очевидно, и автор) приходит к некоему промежуточному выводу о том, что «Им (прим. — предкам) жилось, по-своему, хорошо, но (прим. — читаем «потому что») у них был очень важный недостаток: они не понимали, что другие тоже имеют основание желать, чтобы и им жилось хорошо». Более того, герой доходит до мысли о том, что «уж если не драть одного, то не будет ли еще подходящее не драть никого?». Мысли в высшей степени гуманистической, но в той же степени и самоуничтожительной — нравственное противоречие, парадокс, который разрешим, но разрешим только горгиевым методом. А значит, неразрешим. Во всяком случае, неразрешим без потерь для сословия, к которому принадлежит герой.
Осознавая невозможность каких бы то ни было решительных действий и бесполезность нерешительных, герой приходит к заключению вполне в духе «подполья»: «Лучше я буду сидеть и вздыхать. Вздыхать — это мое право, и я тем с большим увлечением пользуюсь им, что это единственное право, которое я сам выработал и которого никто у меня не отнимет».
Текст не перестает снабжать читателя подтверждениями его догадки об историческом параллелизме двух эпох. «Мы не выработали себе ни бодрости, составляющей первый признак освобожденного от пут человека, ни новых взглядов на жизнь, ни более притязательных требований к ней, ни нового права, а просто-напросто успокоились на одном формальном признании факта упразднения». Мы понимаем, что герой говорит об отмене крепостного права; но разве не слышим мы в этих же словах отзвук распада другого государства, на обломках которого мы все пытаемся найти свое место и наспех создаем новую концепцию жизни?
Более того, в довершение сходства, повторяем ту же ошибку, что и современники Салтыкова-Щедрина: притом, что современностью решительно отвергается система ценностей советской эпохи (как, справедливости ради надо сказать, и всех предыдущих), «старые способы жуировать жизнью остались во всей неприкосновенности».
«Конечно, некоторые подробности изменились, но разве подробности когда-нибудь составляли что-нибудь существенное?» — вторит нашим мыслям герой «Дневника». — «Если главная основа жизни не поколеблена, то нет ничего легче, как дать подробностям ту или другую форму — какую хочешь».
Странно было бы говорить о Щедрине-пророке, как и, скажем, о пророке Гоголе. Это скорее свидетельствует об универсализме таланта и о цикличности истории. Соблазнительно, конечно, сузить проблему и сказать — «о цикличности русской истории», но это было бы подтасовкой исторических фактов.
Однако нелепо было бы отрицать очевидный факт того, как виртуозно Салтыков-Щедрин со своей блестящей иронией подмечает черты и черточки русского характера. Чего стоят только одни мечты героя о том, «что вот-вот совершится какое-то чудо и спасет» его. «Например: у других ничего не уродится, а у меня всего уродится вдесятеро, и я буду продавать свои произведения по десятерной цене. Или еще: вдруг Волга изменит течение, повернет левей-левей, и прямо в мое имение!»
Или не менее блестящее: «Всякий вслух глумится над позывами властности, но всякий же про себя держит такую речь: а ведь если б только пустили, какого бы я звону задал!» Кто, прочтя эти строки, наберется смелости заявить «Не узнал!» Несомненно, что войти в народные пословицы и поговорки Щедрину мешает разве что избыточная эклектичность слога — специфика авторского стиля, но никак не отсутствие художественной наблюдательности.Нужен ли нам Салтыков-Щедрин? Да. Нашей эпохе действительно нужен Салтыков-Щедрин. Щедрин, который упорядочил бы хаос гипертрофированного медиа-постранства современности, структурировал его, извлек из него самое важное, то, чего не видит обывательский глаз, извлек и высмеял — зло и беспощадно. С журнальных ли страниц, с подмостков театра, с экранов телевизоров — неважно. Современность ждет Щедрина — это понятно; непонятно, откуда должен явиться миру новый Щедрин, если эта же «современность» предпочитает знакомиться с Салтыковым-Щедриным в кратком содержании. Или не знакомиться вовсе.
Как бы ни ругали мы пресловутую цикличность истории, любезно подставляющей нам на каждом своем новом витке одни и те же грабли, это тот редкий случай, когда мы должны быть ей благодарны — за то, что один Салтыков-Щедрин у нас, к счастью, уже есть.
Список литературы:
- Ги Дебор. Общество спектакля. — М.: «Логос», 2000. — 184 стр.
- Салтыков-Щедрин М.Е. Дневник провинциала в Петербурге. — М.: «Советская Россия», 1986. — 480 стр.
- Корнилов Е., Корнилова Е. Массовые коммуникации на рубеже тысячелетий. — М.: «Флинта», 2012. — 256 стр.