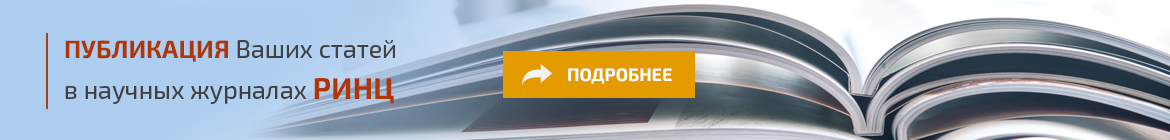ЖЕНЩИНА КАК ЗНАК «НУЛЕВОЙ» [8, с. 52] КУЛЬТУРЫ В ПОВЕСТИ С. ДОВЛАТОВА «ЗАПОВЕДНИК»
Секция: 9. Филология

XXXI Студенческая международная заочная научно-практическая конференция «Молодежный научный форум: гуманитарные науки»
ЖЕНЩИНА КАК ЗНАК «НУЛЕВОЙ» [8, с. 52] КУЛЬТУРЫ В ПОВЕСТИ С. ДОВЛАТОВА «ЗАПОВЕДНИК»
Всего в «Заповеднике» насчитывается двенадцать женских образов, сюжетно проявленных в разной степени. В «Словаре символов» Джека Тресиддера дается следующее толкование «двенадцати»: «В древней астрономии, астрологии и хронологии – это основное число, символизирующее пространство и время. <…> Представляет организацию космоса и зоны небесного влияния. <…> Символизирует союз духовной и временной сфер» [10, с. 345].
Модель, основанная на «двенадцати», является важнейшей в разных культурах, так как приравнивается к божественному кругу, законченности и, следовательно, к идее всеобщности. Именно поэтому это число принадлежит к наиболее употребительным в мифопоэтических культурах числовым шаблонам.
В христианской культуре символика числа «двенадцать» была тесно связана с образом Небесного Иерусалима. В откровении Иоанна Богослова содержится следующее описание Мистического Града: «Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых: с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований и на них имена двенадцати Апостолов Агнца» [6].
Можно предположить, что символика числа «двенадцать» вторгается в структуру довлатовской повести и помогает автору выстроить образ Пушкинского Заповедника как некий космос, законченность, упорядоченную систему, где все подчиняется общему закону и смыслу, а именно, – своеобразное отражение Божьего Града. Так, подобно Божьему закону, установленному в Небесном Граде, в музее-заповеднике все подчиняется Пушкину; в Граде всюду «обитает» имя Господа, в заповеднике – Пушкина, даже речь работниц музея напоминает молитвы, она так же подчинена канону и стандартна. Однако если в Небесном Иерусалиме граждане принадлежат к истинным праведникам, то в Заповеднике, скорее, - к нарушителям «веры Пушкина». Так же, как по воззрениям обитателей Небесного, мир разделен на две общности: Града Божьего и Града Земного – «заповедные» люди делят мир на пространство пушкинского музея и другое пространство. А двенадцати ангелам, охраняющим врата Града, соответствуют двенадцать женских персонажей повести. Но если Небесный Иерусалим можно охарактеризовать как представление об идеале, возвышенном над земной реальностью, то заповедник создает впечатление «абсурда», снижения культурных ценностей.
Художественный мир Довлатова организован двумя антиномиями – «нормы» и «абсурда». А. Арьев отмечает, что, по Довлатову, жизнь человеческая абсурдна, если мировой порядок в ней нормален [2, с. 12]. Сам писатель об этом говорил: «Основа всех моих занятий – любовь к порядку. Страсть к порядку. Иными словами – ненависть к хаосу» [11, с. 80]. Так, основной функцией своего творчества Довлатов считал путь от хаоса к космосу, от абсурда к норме.
На уровне «Заповедника» антиномия «норма – абсурд» становится одной из главных тем: «мир охвачен безумием. Безумие становится нормой. Норма вызывает ощущение чуда» [3, с. 8]. Однако следует отметить, что полярность этой антиномии является лишь кажущейся. Четкая маркированность полюсов «нормы» и «абсурда» отсутствует. С одной стороны, «норма» и «антинорма», «абсурд» могут свободно менять свою позицию, следовательно, и свое аксиологическое значение, с другой – они могут выступать в роли свободных взаимозаместителей, полноценно подменяющих друг друга, тем самым обнаруживая их принципиальное родство.
Таким образом, Небесный Град и пушкинский заповедник, как носители «нормы» и «абсурда», порядка и хаоса, являются гранями одного и того же явления. Женщины, работающие в заповеднике, выступают своеобразными жрицами, служителями культа Пушкина, обеспечивающими наличие абсурда. В довлатовском случае абсурд не является языковой игрой, литературным приёмом. Это состояние социума и отношений между людьми. То есть писатель возвращает понятию «абсурд» античное истолкование. «Понятие абсурда, означавшее у ранних греческих философов нечто нежелательное, связанное с противоположностью Космоса и гармонии, по сути было эквивалентно понятию Хаоса. Тем самым абсурд выступал как эстетическая категория, выражающая отрицательные свойства мира и противоположная таким эстетическим категориям, как прекрасное и возвышенное, в основе которых находится положительная общечеловеческая ценность предмета. Кроме того, понятие абсурда означало у греков логический тупик, то есть место, где рассуждение приводит рассуждающего к очевидному противоречию или, более того, к явной бессмыслице и, следовательно, требует иного мыслительного пути. Таким образом, под абсурдом понималось отрицание центрального компонента рациональности — логики» [1, с. 12]. Довлатов свидетельствует об уродстве и обытовлении того, что должно восприниматься как прекрасное и возвышенное.
Кроме того, в противовес классическим представлениям о женщине, в которых с ней связывалось начало внерациональное, а с мужчиной – интеллектуальное, рациональное, у Довлатова логика общения между мужчиной и женщиной нарушена как раз потому, что женщины оказываются слишком рациональны:
«Девушка-экскурсовод ела мороженое в тени. Я шагнул к ней:
– Давайте познакомимся.
– Аврора, – сказала она, протягивая липкую руку.
– А я, – говорю, – танкер Дербент. Девушка не обиделась.
– Над моим именем все смеются. Я привыкла... Что с вами? Вы красный!
– Уверяю вас, это только снаружи. Внутри я - конституционный демократ [4, с. 170].
Приведенный диалог – первая развёрнутая беседа на подступах к заповеднику – предопределяет и весь последующий стиль общения с работающими в Пушкинских Горах женщинами. Коммуникация нарушена, поскольку Алиханов и Аврора существуют в разных семантических полях. Те слова, которые имеют для мужчины ассоциативный абстрактный смысл («Аврора» и «Дербент» – корабли; первый называет революционный крейсер, давший сигнал к штурму Зимнего дворца, второй образ введен в литературу Ю.Крымовым в повести «Танкер «Дербент»» [4, с. 172]; красный в значении «большевик»), для женщины имеют лишь прямой смысл (имя, цвет лица). Кроме того, ирония героя не прочитывается собеседницей, что приводит разговор в тупик (невозможно разговаривать).
В дальнейшем искаженная коммуникация героя с прагматичными, рациональными женщинами повторяется многократно (разговор с Таней о творчестве; собеседование с Марианной Петровной – и так далее). Герою постоянно приходится общаться с женщинами заповедника, но итог разговора так или иначе обнаруживает непонимание.
Женские образы можно классифицировать на три группы: а) те, что находятся непосредственно в локусе заповедника – «служители пушкинского мифа» – Галина Александровна, Виктория Альбертовна, Надежда Федоровна; б) те, что находятся в локусе заповедника, но приехали сюда на определенное установленное время, то есть связаны и с остальной реальностью (экскурсоводы Аврора и Натэлла); в) те, что находятся в «околозаповедном», периферийном пространстве (жители деревни Сосново: Лиза, Зина и Вера). Если женские персонажи первой и второй группы взаимодействуют друг с другом, то периферийные персонажи не сопоставляются между собой и не взаимодействуют.
Обратим внимание на то, что служительницы заповедника имеют имя и отчество, в то время как остальных женщин герой называет по имени. Официальное, полное имя свидетельствует о формализованном общении, и о том, что женщины выбрали для себя карьеру «служительниц», официоз, отказавшись от самореализации в личной жизни. По сути, женственность в её традиционном значении у Алиханова с этими героинями не ассоциируется.
Редукция женственности подтверждается тем, что жрицы заповедника, как правило, лишены для героя физической привлекательности: «Затем появилась некрасивая женщина лет тридцати – методист. Звали ее Марианна Петровна. У Марианны было запущенное лицо без дефектов и неуловимо плохая фигура» [4, с. 178]. В Галине Александровне герой видит «мечту отставника» [4, с. 237], а Виктория Альбертовна своими претенциозными нарядами и украшениями наводит на Алиханова скуку: «Длинная юбка с воланами, обесцвеченные локоны, интальо, зонтик – претенциозная картинка Бенуа» [4, с. 162]. Сравнение с картиной Александра Николаевича Бенуа еще более снижает образ Виктории Альбертовны, поскольку героиня представляется излишне вычурной, не соответствующей современной реальности. Она пытается вернуть прошедшее время: «Этот стиль вымирающего провинциального дворянства здесь явно и умышленно культивировался» [4, с. 171]. Образ Бенуа выбран Довлатовым ещё и потому, что художник является иллюстратором многих пушкинских произведений («Пиковая дама», «Капитанская дочка», «Медный всадник» [9]). Так же, как и художник, служащие заповедника стремятся иллюстрировать пушкинский мир своими представлениями о нём.
Работницы заповедника постоянно повторяют: «Пушкин – наша гордость!.. Это не только великий поэт, но и великий гражданин…» [4, с. 178]. Герой делает вывод, что «… любовь к Пушкину была здесь самой ходовой валютой» [4, с. 179]. И далее: «Все служители пушкинского культа были на удивление ревнивы. Пушкин был их коллективной собственностью, их обожаемым возлюбленным, их нежно лелеемым детищем» [4, с. 221]. Подобное определение делает ещё более выпуклой тему религиозного служения и образ «жрицы», поскольку «подвластная космической энергии любви, она превозносит Богиню (в случае заповедника – Пушкина как Бога; примеч. наши), испытывая физическое наслаждение и духовный экстаз. Она открывает маскулинности возможность божественного проникновения, а фемининности – возможность перестать от него отказываться» [5, с. 8]. Претендуя на причастность к небесному «возлюбленному», женщины заповедника лишаются земной любви, поэтому в реальной жизни остаются людьми ущербными. Их профессиональная принадлежность в описании заменяет личные характеристики: бухгалтер, методист, экскурсоводы. Чаще всего в заповеднике работают одинокие женщины, мечтающие только о том, как бы выйти замуж. «Заповедник» становится еще одной интерпретацией «пушкинского мифа». Таким образом, используя иронический принцип повествования, Довлатов развенчивает пушкинский миф, а изображение его абсурдности способствует воспроизведению в повести вторичного мифа о Пушкине.
Отказ от женской сущности актуализирует в повести один из ключевых мотивов – мотив фальши. Большинство объектов и персонажей «Заповедника» неподлинны, что уже отмечалось литературоведами: «Изобилует подменами и повесть «Заповедник». Часть из них – подмены свершившиеся, часть – фиктивные (псевдоподмены). В Пушкинских Горах всё, как в театре, всюду декорации. Вещи, не принадлежавшие Пушкину, «новоделы», фальшивые валуны, липовая аллея Керн, к которой она «и близко не подходила». Подмены здесь – это элементы, логично встроенные в общую картину «театра», где всё не то, чем кажется.
Принцип «одно вместо другого» весьма распространен в прозе С. Довлатова. В «Заповеднике» он проявляется через мотив фикции и фальши в женских образах. Он реализуется как на уровне номинаций и внешних характеристик, так и на уровне поведения героинь. В первом случае портрет героини не отвечает её внутренней сущности (как с приведенным выше примером сравнения Виктории с картиной Бенуа, когда героиня пытается подражать дворянскому стилю, не принадлежа к нему). Экскурсовод Аврора, которая, с одной стороны, описывается как «юная, живая, полноценная» [4, с. 227], и в этом смысле соответствует своему мифологическому имени [1, с. 340], в речи пользуется формулами и клише: «… Вдумайтесь, товарищи!.. “Я вас любил так искренне, так нежно…” Миру крепостнических отношений противопоставил Александр Сергеевич этот вдохновенный гимн бескорыстия…» [4, с. 246]. Сравнение мифологического слоя и дискурса соцреализма обесценивает образ в целом.
Чаще всего мотив подмены, фальши проявляет либо конфликт подлинной / ложной культуры, либо отсутствие любви. (Нужно ещё раз акцентировать, что темы любви и культуры в повести переплетены. Лейтмотивом звучит фраза: «Вы любите Пушкина?» – которая становится для «жриц» заповедника маркером как духовной, так и любовной близости). Потребность в любви и неудовлетворенная женственность обуславливают искусственное поведение женщин. Наиболее «театральными» они становятся в момент сближения с главным героем:
«– Спасибо, милая.
Тон резко изменился:
– Какая я вам милая? Ох, умираю… Милая… Скажите, пожалуйста… Милую нашёл…[4, с. 101].
И в связи с другими героинями: «– Полюбить такого, как вы, – опасно».
И Натэлла почти болезненно толкнула меня коленом» [4, с. 152]. Или:
« – Понятно, – говорю, – спасибо, Вика.
Вдруг она нагнулась. Сорвала какой-то злак. Ощутимо хлестнула меня по лицу. Коротко нервно захохотала и удалилась, приподняв юбку-макси с воланами» [7, с. 52].
В последних двух случаях женщины не только словесно, но и физически вторгаются в личное пространство героя: толкнула коленом, ударила по лицу. В обоих случаях это становится попыткой ухаживания, проявления внимания. Но попытка, во-первых, свидетельствует о любовной незрелости женщины, о неумении проявлять внимание; а во-вторых, подтверждает инвертирование, смену аксиологических полюсов в пространстве заповедника, где ласка превращается в удар.
Женские образы характеризует пограничность, двойственность. По Довлатову, они находятся в неустойчивом равновесии между двумя стилями (речи, поведения): канцеляризмом и интимностью, приближаясь то к одной, то к другой стороне. Поэтому Галина Александровна в сценах общения с героем на природе «превращается» в Галю. Неустойчивость положения заставляет женщин постоянно конкурировать, автор употребляет по отношению к ним слова ревность, зависть. При этом границы принадлежащих служительницам зон влияния размыты. Каждая из них претендует на господство как над заповедником, так и над образом главного героя, постоянно вторгаясь в его личное пространство. Так, когда Галина видит жену Алиханова, то говорит: «Господи, какая страшненькая!» [4, с. 248]. В её высказывании проявляется не только отторжение «чужого» (женщины, не принадлежащей к заповеднику), но и стремление присвоить мужчину.
Довлатов изображает заповедник как матриархальное пространство. Все руководящие должности занимают женщины. Они оценивают культурный уровень нового экскурсовода. Героини обладают деньгами (Галина занимает Алиханову тридцать рублей; Марков просит у жены «опохмелиться») и информацией. Но они не реализуются в любви и в семье, поэтому их личность воспринимается автором как неполная, незавершенная.
Более цельный тип представляют собой жительницы Сосново. В них нет искусственности, определяющей причастность к лже-культуре. Это женщины среднего возраста, которые занимаются хозяйством, живут с семьей и страдают от мужей-алкоголиков. Собирательный образ такой женщины представлен Верой, женой Маркова – фотографа, работающего на территории Заповедника: «Бледная, измученная, с тяжелыми руками. Сварливая, как все без исключения жены алкоголиков» [4, с. 173]. Их семейная жизнь далека от идеальной (например, Михал Иваныч время от времени пытается убить жену Лизу), но в их жизни и не заложена изначальная интенция к сохранению культуры: они живут вне заповедника как пространственного локуса и как мира литературы. Поэтому мотив фальши в этом случае не проявлен. Довлатов упоминает женские образы деревни Сосново очень редко, в основном иллюстрируя общий трагикомический фон русской действительности.
Матриархат определяет не только существование заповедника, но и весь социум довлатовской повести. В частности, в повести нигде не упоминается отец главного героя, при этом Алиханов отмечает, что мать сформировала его мировоззрение: «В этом – мамина политическая заслуга. Мать, армянка из Тбилиси, неизменно критиковала Сталина. Правда, в довольно своеобразной форме» [4, с. 162]. Не только мать, но женщина вообще «завершает» мужчину, придает ему значимость во мнении общества: «Мы (с женой – примеч. наши) шли деревенской улицей, и все приветливо здоровались с нами. Я давно заметил, что вместе мы симпатичны окружающим. Когда я один, все совсем по-другому» [4, с. 160]. Женщина обладает большей властью в довлатовском социуме из-за того, что принадлежит к земной реальности, в силу своей прагматичности, о которой было сказано выше. Однако зависимость от вещного и социального мира рассматривается автором как недостаток. Стремление женщины выйти за пределы быта в сферу духовности (в любовь, в литературу, в культуру) обречено на неудачу, в то время как материальное и социальное неблагополучие мужчины (каждый из персонажей-мужчин в заповеднике часто оказывается без денег, имеет конфликты с властью и склонен к алкоголизму) оказывается своеобразным «пропуском» в мир слова. Именно мужчины в повести сочиняют и цитируют стихотворения, знают подлинные детали пушкинского времени, обладают энциклопедическими знаниями.
Центральное противоречие, определяющее коллективный портрет женщин заповедника в одноименной повести, заключается в том, что героини по роду деятельности обязаны быть хранителями и трансляторами культуры, но не способны сделать это в силу своей женской природы. Интеллектуальная и эмоциональная опустошенность лишает героинь психологизма. Женские персонажи статичны. Они не изменяются по ходу сюжета, лишены развития, читателю не раскрывается подлинный внутренний мир женщины. Она превращается в симулякр, знак бездуховности, лишенный содержания, в котором «нулевое» наполнение скрыто за демонстрацией фиктивной женственности.