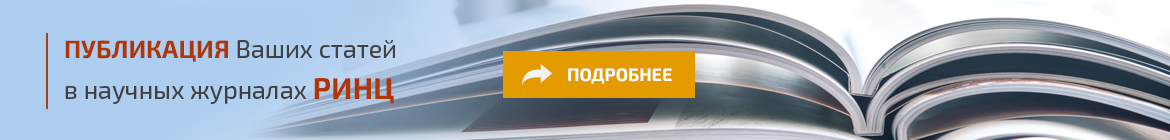ДОБРО И ЗЛО СВОБОДНОЙ ВОЛИ
Секция: 5. Философия

XXXIV Студенческая международная заочная научно-практическая конференция «Молодежный научный форум: общественные и экономические науки»
ДОБРО И ЗЛО СВОБОДНОЙ ВОЛИ
Злободневность заявленной темы соответствует актуальным текущим событиям в стране и в мире. В обществе, которое отчетливо поляризуется на враждебные группировки, необходимо переосмыслить старые представления о добре и зле, свободе и воле. Остановимся пока на этих четырех понятиях. Возможно, сверяя свои рассуждения с семантическими значениями слов, мы придем к принципиально другому синтаксису, а от него и к совершенно другой риторике публичной речи. Если оставить общие понятия на произвол контекста, то каждый будет вкладывать в них свое значение, что неизбежно приводит к моменту, когда эти значения становятся антагонистическими и порождают «конфликт интересов». Когда в обществе налицо резкое размежевание на друзей и врагов, наступает пора для философов, социологов, лингвистов, логиков показать свою состоятельность через мудрость своей речи. Это экзамен, прежде всего, для «сословия» мыслящих. Не все люди философы, большинство прекрасно обходится без всяких философий, занимаясь своими привычными делами. Но если мыслитель не обозначит свои не релятивные, а вполне сущностные соображения и критерии смысла в публичном пространстве, то общество с размытыми смысловыми ориентирами, с неизбежностью деградирует, вступая в области войны, раздора, вырождения, анархии. Мы рассмотрим внимательно только четыре слова, можно сказать – четыре грани единственного Слова, которые, будучи понятыми, формируют разумную общую цель для носителей языка.
Каждый текст в «злые времена» как тест. Тест на зрелость. Ибо только в случае совпадения артикулированной формальной речи с внутренней интуицией добра, возможно реальное содействие Словом людям, пребывающим в неблагоприятных обстоятельствах, и оттого находящимся в замешательстве. А когда кто-то в замешательстве, тогда он хватается за «крепкую руку» тирана и насильника, не замечая того, что эта рука ведет его к гибели.
Мы исходим из того, что Слово, если оно исчислено, измерено и взвешено, выражает некий категорический императив и безусловно вносит в жизнь разумный порядок. Если оно не вполне понято, является только знаком мнения (сомнения) всегда релятивным, всегда отсылающим в дурную бесконечность «улучшения», то такое слово необходимо оставить вне сферы публичных отношений, за пределами республики человека.
Разве есть слово более волнующее душу русского человека, нежели «воля»? Прояснив его смысл, мы сможем понять «свободу» как совершенство воли, как ее форму, образ. Выражение «свобода выбора» предстает в этом случае как изъян языка. Чем мы выбираем? Желаниями. Но природа желаний нацелена на множество предметов желания. Все, однако иначе с природой воли, поскольку она проистекает из единственного субъекта желаний, потому и проявляется только в повелении, а повеление не выбирает. Воля, как высшее, исключительное, предельное желание. Именно воля способна обратить желание на самое себя. Так воля диктует и формы желания и формы восприятия желаемого, а не просто принимает их по факту. Поскольку воля не выбирает, а проистекает как источник из единственной индивидуальности, то у нее нет проблемы выбора, только потому её приказы совершенны, её проявление не ущемляет ни одно живое сознание и её призыв слышит только равновеликая душа. Воля превосходит любые желания «нрава», выдающие себя за последнюю инстанцию, и тем она превосходит систему отношений, основанную на неравенстве людей. По факту – люди не равны – у каждого, свой нрав, каждому нравится что-то свое. Однако, воля, отличая себя от нрава, тем превосходит его, превосходит сам факт неравенства своенравных. Это принципиальный момент. Как бы не пытались своевольничать своенравные, вольная душа с изрядной снисходительностью будет смотреть на дела и слова их. Одним людям дорого то, что им нравится и они берут в поводыри какое-то из своих желаний; другие слышат в себе приказ воли, словно бог говорит в них, и так они отличаются от первых. Именно, вольные люди вполне способны понять и признать идеал «равенства», всегда кажущийся нелепым для «своенравных». В индийской мифологии нрав персонифицирован в образе Индры (диал. «ндравиться», сюда же – «антропос»), для воли же более подходит древнее славянское божество Велес. Вольной душе не бывает тесно среди других, поскольку «волосок» индивидуальной воли не располагается в едином для всех фактическом пространстве, но находится исключительно в символическом пространстве, потому и не заражена терпимостью (толерантностью) общества «равных прав», логикой «дома терпимости», но наделена имперской повелительностью личности в мышлении, слове, поступке. Пусть не смущает римское понятие «имперская», здесь мы его используем, чтобы подчеркнуть вектор авторитарной личной направленности. Наш Рим прекрасно ладит с Элладой, через понятие «свободы», которая подобно свету «алетейи» – истины открывает нас навстречу друг к другу в чуткости «вольнослушателей».
Голос воли есть голос разума. Где нет разума, как умения различать, там воля в заложниках у чувств, желаний, пристрастий, однозначных понятий. Разум различает области иерархической обусловленности, выстраиваемые умом, и области горизонтальной событийности. На горизонте событий воля выражает себя вещанием, отстранившись от стремления к обладанию, она вещает свое необычное повеление. Если нрав ищет закрепить себя в законе (законодательстве), то императив воли необычен, – он совещателен, ибо имеет дело с другими индивидами. Воля – это не сила самодовольного своенравия, но нечто волшебное. Люди равны животным по критерию своенравия, но люди равны друг другу по критерию индивидуальной вольности. Здесь воля создает не закон, но правила (правление, праволение). Правила воли, в отличие от юридических легальных прав и правил, вполне эстетические, – никогда не становящиеся формой обязанностей, но остающиеся маркерами желательности для каждого вольного духом. Воля не ищет выстраивать политическую иерархию, но ищет событие горизонта.Правила воли есть форма ее свободы, форма социализации свободной повелительности. Право = Свобода. Прекрасно то, что проистекает из сущностного вольного истока. Когда воление встречается с другим индивидуальным волением, то вместе они создают эстетическо-косметический космос «правильности».
Воля созидает вещи только в значении вещем и вечном. Вещи вне вещего смысла зловещи. Они склонны разлагаться и погибать. Пра-воля преодолевает распад и гниение, выявляясь как воскресительное преображающее начало. Языком онтологии можно определить волю как «действенность бытия в отношении к сущему». Сущее-в-себе не действует, но «причиняет», каузально обуславливает предметы и явления, «неволит», и, только брошенное в бытие, сущее индивидуализируется, в себе открывает предельную раздельность между вещами сущего, узревает их как самостоятельно-сущие индивиды. Бытие выступает как фактор абсолютного разделения, но абсолютное разделение обеспечивает и абсолютное сходство, без всякого логического «общего основания». Осуществляет сходимость мышление, которое равнозначно волению. Воление как мышление. До тех пор, пока человек не открыл в себе свою волю он покорен обуславливающему механизму сущего, потому и разделяет мышление на «теоретическое» и «практическое», подменяет волю нравом. Только в брошенности в существование, сущее подхватывается-полагается мышлением, которое волит все сущее, но не неволит. Сущее, посмевшее открыть себя к Бытию, выступает как свободная форма самобытного сущего, раздельно уподобляемого. Самодеятельность мысли не искажает природу вещей, но пробуждает её особым формально оправленным языком действительной власти, с его ресурсом проективного влияния. Содеятельное дление, справедливое дление отлично от временного дления сущего-в-себе-и-для-себя, и тем преодолевает тление.
Когда сущее схватывается свободным пониманием себя (осмысляется), оно начинает смеяться (трепетать в смешении индивидов), ибо «оказывается» окоемом показа всех раздельно явленных вещей навстречу друг другу. То есть, видит себя снаружи потерявшим своё континуальное дление. Это онтологический смех смелости быть. Бытиё, до срока скрытое вниманием к череде предметов познания, в этот момент обнаруживает себя как миролюбивую, мирволящую волю, милостиво разрешительную, насмешливую в областях принуждения и насилия и радующуюся среди равных. «Единство сущего» скрывающее до срока мир воли, пока не было понято окончательно, и так распалось на множество волящих существ. Ситуация диссипации. Каждый отдельный индивид, вполне понимая себя как несомненное единство, тотчас прозревает индивидное в других и прекращает подстраиваться и подлаживаться под коллективистские представления. В смелости быть, сущее словно забывает (греческое «лете» – сокрытие) себя, иначе невозможно осуществить «открытый показ». Желаемое «единство сущего», выдаваемое за действительное, функционирует как система власти одного над многими. Множество здесь сводится к единству класса. Но реальное единство, достигнутое в индивидуальном понимании, функционирует в режиме разума и это не класс, включающий в себя множество, но «воображаемое установление общества». И знаком такого «единства» служит улыбка благожелательности, обращенная к Другому.
Свободная особь конкретной индивидуальности оказывается изгнанной из всех классифицирующих родов – «человечности», «народа», «племени» и даже «семьи» как класса. С чем же она остается на своем «идиотическом» месте? С формальным символическим языком и индивидуальным волнением, в котором – предощущение встречи с подобными себе языками. Круг «своих» как племя света, как общая «слобода». Только в этом кругу вместе-со-своими личность свободна. И круг этот не замкнутое кольцо «избранных», но символ исключительной в своем роде «неописуемой» общности. «Свои» – это как бы «пришельцы из будущего» для тех, кто живет во времени. Здесь изобретается раса вечных, вещих, блаженных существ ресурсами вольного наречия. Здесь «русский дух», здесь превосходство «древней знати» над простолюдинами, живущими в непрестанной обусловлености обстоятельствами. Воля своим безупречным императивом невыносима для нравных людей, привыкших расчитывать свои усилия, соразмерять их с усилиями других людей. Воля не расчитывает, она всегда внезапна. Утверждая сущее в едином существе дела, воля, тем самым, говорит о своей способности изобретать Другого и позволять ему иметь собственную волю, из глины привычной «человечности» формирует Другого.
Свобода, повинующаяся воле есть мудрость бытия. Мужество быть и мудрость осуществления. Сущее размыкается. Индивид здесь не делится на «мужчину» и «женщину» принадлежащих одному роду – «человеческому», но сущностно разделяется на существ разного рода, когда второй род всегда вымышляется, а не утверждается как факт на общем основании «человечности». Да и сама «человечность» превращается в проект «вечности», а не факт данности во времени. Нрав вольной души обеспечивает своеобразие каждого перед лицом друг друга. Воля подводит нас к понятию власти. Иногда говорят: власти выгодно атомизированное общество, ведь ее принцип: «разделяй и властвуй». Не противоречим ли мы себе, утверждая фантастическое сходство «разделенных»? Власть легко манипулирует разрозненными субъектами. Власть, при этом, подменяет собой сущностные связи людей друг с другом, всячески препятствует их возникновению, отвлекая внимание на свои «законосообразности». Но мы говорим о другой власти, которая не манипулирует разрозненными субъектами на почве некоего общего основания, а налаживает отношения между вполне определившимися существами дела, – обладает каждым и не принадлежит никому. Наша власть абсолютно миролюбива, но и предельно жестко холодна для всех «теплящихся» душ. Наша «власть» однокоренное слово со словом «лад» или древнегреческое λήθή – сокрытое, она есть сокрытие волящего, в отличие от «свободы», которую мы сближаем по смыслу с понятием ἀλήθεια – истины. Как откровение.
Свобода означает «свобода ради», когда она – оправа особенного. Свобода означает «свободу для», когда она располагает индивидуальное существование в общем Проекте. Особенное (свободный=особь=свет) светится и тем разрушает власть всеобщего, которая на протяжении веков была «властью от бога» (духовенство) или «от кесаря», что в принципе, одно и то же. Настоящий бог – это и есть разумная индивидуальность. Чем более высоко люди ставят над собой «божий суд», тем более они принижены и безвольны. Понимание свободы как мудрости сопричастности открывает нам обоженого человека, обожженного радиоактивностью собственного света. Словом, свободный обозначалась на Руси принадлежность к определенной этнической группе, которая, в свою очередь, обозначалась с помощью растительной метафоры – от глагольной основы с общим смыслом «расти, развиваться». Корень swos – это возвратное или притяжательное местоимение, не личное, поскольку относится к любому члену данного коллектива и выражает взаимно-возвратные отношения. «Субъективность выражается как принадлежность» себе подобным; целая группа лиц как бы сомкнулась вокруг «своего», тут важно не родство по крови, а родство породнения. Понятия «собины», «собства», «собственности», говорят совсем не о наличии чего-то у собственника, а выражают особенность каждого перед лицом своих, в круге символического породнения. Местоимение «свой», настолько не личное, насколько личность открыта и сличаема с другими лицами, насколько она показательна, насколько она в свете. Мы могли бы сблизить с понятием «свободы» и такие далекие, казалось бы, понятия, как «свадьба», «судьба», но это предмет более детальных исследований. Так же и рассмотрение всех перипетий в отношениях «собственности» и «свободы», мы отложим на будущее. В книге Владимира Колесова можно найти богатейший материал по истории русских слов, к ней мы и отсылаем, – нас же в данном докладе интересует смысловая размерность понятий «свободы» и «воли» в системе моральной определенности воли, то есть в системе «добра» и «зла».
Пришла пора поставить точки над i в этом трудном вопросе. В вопросе, чрезвычайно запутанном. Он уходит корнями своими к «райскому выбору». Предполагаем, что и разрешение его возвращает в рай, к Древу вечной жизни. Речь пойдет о «добре» и ... «благе», как действительно антиномической паре. Для массового сознания вполне понятны «добро» и «зло» – дихотомия, элементы которой однозначны и потому проявляются в тупом противостояние друг другу и, никакой усредняющий синтез здесь не рождает целостной гармонии. Такое противостояние несёт раздражение, слабость, утомление, – не жизнь, а агонию выживания. «Добро» и «зло» насколько очевидны – как день и ночь, – настолько и опасны, выражая себя в двузначности языка. Опасны тем, что создают две разновидности мотиваций, которые искажают человеческое естество. Религия Заратуштры говорила о попеременности правления «доброго» и «злого» божества. Христианство, несмотря на свой монотеизм, культивирует манихейскую дихотомию, без которой рухнет всё здание церковной иерархии. Попробуем разобраться, что здесь неладно, сделаем ревизию смысла. Зло не противостоит добру. Оно, скорее, – искажение и сбойка, аритмия на путях добра. Можно определить зло как избыток энергии еще не усвоенный и неосмысленный силой добра, еще не ассимилированный его ритмом, его волей. Этот избыток прорывается в жизнь и застилает чистую природу добра, которая определяется двумя конституирующими составляющими – «добродеятельности» и «благополучия». Невозможно прозреть природу добра, не уяснив, не приняв его в единственном неразложимом смысле единственной воли. Добро сопрягается с благом как вдох и выдох. И более того, «благость» добра, располагая предыдущим и последующими моментами, всегда стоит у истока времени, так оно синхронизирует события. Блаженны те, кто живут в синхронии событий. «Жить-поживать, добра наживать». Собрать можно много чего и заблудиться-озаботиться в дебрях добра. Есть слово звонкое, золотое – «зло». Оно, то и может стать прекрасной оправой для содержательности «добра». Если мы нашли подлинный антоним «добру», что делать с «плохими» словами? Конвертировать в «другую валюту». Когда «злой» язык метафоричен, тогда он является проводником «блага». В метафоре воля добра переиначивает «злые» имена, они становятся лучшими выразителями благости в человеке на путях смысловой релаксации. Невротическое сознание мертвой хваткой держится за «хорошие» слова, противопоставляя их «плохим» и не замечает своей слепоты в отношении благодетельного добра. Между «истиной» и «ложью» зажат невротический человек. Однако в поле метафорического языка нет принуждающего влияния прямого требования. Такой язык апеллирует только к завершенности Другого и побуждает его к домысливанию себя. Можно говорить об эсхатологичность языка добра. Добродушие позволяет внимать языку метафор, как бы потустороннему, но наделенному харизмой таинственного очарования воли. Ругаться, браниться, говорить «нецензурные слова», настаивать на чем-либо уместно, если язык добродушен и иносказателен. Такая настойчивость не принуждает другого, но побуждает его промыслить своё собственное дело, в контексте проективной воображаемой общности. Добродушие человека говорит о завершенности доброго в человеке, и тогда оно вполне стыкуется с совершенством благодушия. Благодушные люди всегда словно заключают пари друг с другом на предмет изобретения возрождения взаимного родства. Добро –это человеческая выдержка и высокое напряжение духа, культура осмысленного труда. Благо же есть удовольствие и блаженство чистого мышления (брошенность в бытие), психологическая релаксация, вплоть до полного забвения ориентиров, наработанных в опыте добродеяния. Когда добро не достигает своего предела на вершине индивидуального понимания, оно становится своеобразным мучителем для своего носителя, постоянно подталкивая его к выполнению «моральных обязательств». Когда дума или правительство изобретают «законы», призванные уберечь моральное начало в человеке, то они вымучивают и себя и других такими «законами», ничего морального, не добавляя в общество. Благо есть пребывание в трате, дарении. Формы благодарения роскошны, избыточны («злы»), – бескорыстны. Незавершенное же добро следует логике: «даю, чтобы ты дал». Благодарению же не присуща логика юридического равенства. Дарю, ибо сила моя переполняет меня. Равенство здесь в том, что акт дарения находится за пределами любого условного добродеяния и является прозрением блага, равноценного добру, и потому не ищет для себя никакой награды. Формы благодати эстетичны, иносказательны, всегда «сражаются», «противостоят», «противоборствуют» привычному, но действуют всегда заодно, солидарно-односмысленно среди благодарных. Благой определяет добро цельно и тем – включает его в себя, ибо существует снаружи. Благо не определяется и не улавливается добром, скорее предчувствуется им, является его надеждой, высшим ожиданием, – благоволением.
Сократ называл злом невежество, тем сохраняя сознательную утвердительность добра, не создавая искусственной дихотомии. Требовалось только сформировать доброе в языке майевтическим вопрошанием, различением значений. Собственной смертью Сократ обозначил краевое-моральное (морес-смерть) значение добра, что позже повторил другой человек – Иисус. Однако Аристотель уже полагал зло самостоятельной сущностью, что и раскололо мир, сделав людей сомнительными существами, способными только обмениваться мнениями. Аристотель открыл двери в ад. Но величие Аристотеля в том, что он окончательно разделил индивидов. На древе Порфирия все связи по вертикали обрываются в нижнем, шестом по счету виде субстанции – «человеке». Платон, Сократ, Цицерон – это имена индивидов, не включенных ни в какой класс сущего. Невежество может властвовать над частностями мира, но не в силах одолеть существо мира – человеческую индивидуальность.
Отсутствие сомнения – абсолютно новое качество человеческого существа. Здесь весь смысл Евангелия. Не такое простое это качество, да и не качество в обычном понимании этого слова, но сама сущность. Видимая несомненность фанатиков, убеждённых в своих частных установках, легко обнаруживает свою несостоятельность при более внимательном взгляде, показывает себя как механизм маскировки, самосохранения, замкнутый на себя, обиженного, одинокого, неуверенного в себе существа. Не то несомненость добра. Такая несомненность делает человека мировым существом, великодушным и благожелательным, сторонящимся фанатиков каких-либо частных убеждений и приветливого с ближними. Мир настолько чудовищно близок человеку, что он в ужасе и испуге отшатывается от его непостижимой безмятежности, вперяясь взглядом в среду обитания и ошибочно называя её «миром». Здесь он тешит себя иллюзией «действующего лица», будучи обывателем. Слова обывателя описывают некий коллективный гипноз, заземляющий смысл мирового добра. Обыватели похожи на обломки крушения «великого человека» и по инерции сохраняют внешнюю грамматическую связность в своих предложениях. Но, утеряв состоятельность вольного добродея, обыватель становится похож на кошку, закапывающую свои какашки, забывшей смысл того, что она делает. Слово, переставшее выражать существо дела говорящего, отчуждаясь от него, становится инструментом умерщвления проекта человечности.
Добро человеку заботится только о верном, вверенном ему знании и так культивировать «действительность». И негоже пользоваться словами, не разумея их смысл. Добрый человек разумеет жизнь по правилам доброго и вольного языка, так пребывая в благорасположенном показе целесообразного, отстраняясь от дихотомий обыденного (обиженного) сознания. Такое добро спасительно для мира и общества.
Список литературы:
1. Колесов В.В. Древнерусская цивилизация. Наследие в слове / Словоуказатель – Н.В. Колесова / Отв. ред. О.А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2014. – 1120 с.