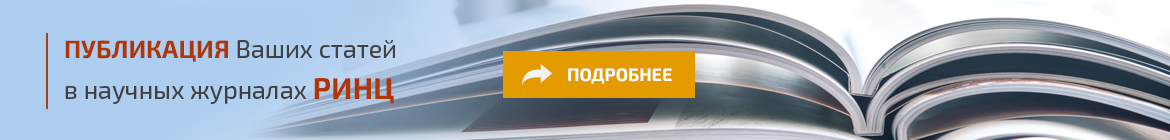Трансформация сценария Ю. Н. Арабова «Приближение к краю» в художественный мир кинофильма А. Н. Сокурова «Телец»
Конференция: XLVII Международная научно-практическая конференция «Научный форум: филология, искусствоведение и культурология»
Секция: Теория и история искусства

XLVII Международная научно-практическая конференция «Научный форум: филология, искусствоведение и культурология»
Трансформация сценария Ю. Н. Арабова «Приближение к краю» в художественный мир кинофильма А. Н. Сокурова «Телец»
TRANSFORMATION OF Y. N. ARABOV'S SCRIPT «APPROACHING THE EDGE» INTO THE ARTISTIC WORLD OF A. N. SOKUROV'S FILM «TAURUS»
Vera Shelest
Post-graduate student of art history, Russian Institute of Art History, Russia, St. Petersburg,
Аннотация. Автор подвергает сравнительному анализу сценарий Ю. Арабова «Приближение к краю» и фильм А. Сокурова «Телец» с целью — заглянуть в творческую лабораторию художников, выявить особенности поэтики их художественного языка и особенности их философской концепции.
Abstract. The author subjects Arabov's screenplay «Approaching the Edge» and Sokurov's film «Taurus» to a comparative analysis in order to look into the creative laboratory of the artists and to identify the peculiarities of the poetics of their artistic language and the specifics of their philosophical concept.
Ключевые слова и сочетания: кинематограф; драматургия; киноязык; фабула; Сокуров; Арабов.
Keywords: cinematography; dramaturgy; cinematographic language; plot; Sokurov; Arabov.
Сокуров и Арабов — уникальный творческий дуумвират. Они познакомились еще в студенческие годы во ВГИКе, в 1978 году сделали первую совместную работу художественный фильм «Одинокий голос человека» по произведениям А. П. Платонова. В дальнейшем Сокуров снял более 50-ти художественных и документальных фильмов. А Арабов написал более десяти сценариев к фильмам Сокурова и изредка сотрудничал с другими режиссерами. В их творческом наследии просматривается циклический подход к тематике. На первом этапе был целый ряд экранизаций (А. П. Платонов, Г. Флобер, Б. Шоу, А. Н. и Б. Н. Стругацкие), потом художники перешли к собственному художественному высказыванию. Например, теме смерти и духовного возрождения посвящен философский цикл 90-х годов: «Круг второй», «Камень», «Тихие страницы», «Мать и сын». Семейная тема, начатая последним фильмом, получила завершение в 2003 фильмом «Отец и сын». Через все творчество мастеров кинематографистов проходит тема моральной ответственности каждого живущего на Земле человека, потому что человек — самое опасное существо на планете, он способен убить на ней все живое.
Еще в 1980 году Сокуров задумал цикл фильмов о великих диктаторах XX века. Его интересовала психология людей у власти. «Политика всегда была деструктивным пространством <...> Чем ближе человек к власти, тем ближе он к деградации» [4]. Так появились фильмы «Молох» (1999), «Телец» (2000) и «Солнце» (2005). В последнем фильме цикла «Фауст» (2011) в отличие от предыдущих главными героями являются не государственные деятели, а поэт и его творение. Авторы подводят зрителя к мысли, что только «культура может удержать нас от озверения» [4].
«Мне всегда казалось, что в историческом пространстве не бывает гениальных и выдающихся людей. Они есть только в пространстве науки, культуры и искусства. Там есть гении, которые осуществляют прорыв, которые могут сходить в будущее и вернуться в свое время и рассказать современникам, что они там видели» [4].
В центре исследования данного доклада фильм «Телец». Картина начисто лишена пафоса обличения Ленина, которым отличались киноленты 90-х годов. В одном из интервью Сокуров скажет: «Я не выношу приговора, я лишь пытаюсь разобраться в судьбе человеческой, в сути его несчастья, а история и судьба уже вынесли свой приговор. <...> Так что мне-то зачем измываться над поверженными (Гитлер, Ленин). Моя цель — понять человеческую природу этого поражения» [9, с. 32].
Цель данной работы: на материале фильма «Телец» исследовать художественный мир драматурга и режиссера, осмыслить особенности их философской концепции, проследить, как происходит трансформация литературного текста сценария в визуальный ряд фильма, какими средствами киноязыка пользуется режиссер в процессе создания фактически иного художественного произведения.
Задача: исследовать поэтику литературного и киноязыка и некоторые проблемы перевода на киноязык литературного текста.
По жанру фильм можно назвать философско-психологическим исследованием. В смысловом поле фильма можно выделить следующие уровни: исторический (судьба героя и страны); психологический (отношение героя к окружающему миру и другим людям); а также символический или даже мистический, потому что центральный конфликт сценария − в противостоянии героя и мироздания.
В основу фабулы положены события одного летнего дня 1923 года. Композиция сценария построена гармонично, можно сказать классицистично. Арабов соблюдает единство места и времени, но пользуется при этом уникальной оптикой, с одной стороны, распахивая пространство в безвременье вечности, с другой стороны, фиксируя внимание на красноречивых деталях и подробностях, которые тут же обретают особую философскую глубину и символическое звучание.
В пяти эпизодах прослеживается регламентированный распорядок дня Ленина: утренний визит врача, занятия с женой, прогулка, прием гостей, обед. Потом, наверное, должны были следовать послеобеденный отдых, шахматы или киносеанс. За внешней размеренностью жизни просматриваются узлы драматических напряжений: больного гнетет насильственная изолированность от внешнего мира и приближающийся паралич. Однако потеря рассудка для него страшнее, чем грозящая неподвижность. Чтоб не допустить унизительного безумия, больной вождь решается в критический момент принять яд.
В первом же эпизоде автор знакомит нас с обитателями Большого дома. Это жена, сестра, обслуга и охрана. Озвученные внутренние монологи близких Ленину людей создают параллельный поток их странному бытию, где говорят не то, что думают, где за внешней вежливостью кроется страх, взаимная подозрительность и глубокая неприязнь. Ненависть больного к тюремщику Паколи оказывается не столь критичной, чем взаимоотношения с сестрой, которая считает себя вправе предъявлять брату претензии от имени семьи.
Разгром оранжерейного рая является кульминационной сценой. ВидЕние матери в обморочном забытьи — развязка. Придя в себя, больной передумал воспользоваться ядом. И все же цель — построение рая на земле — уже недостижима, историческое время кончилось. Арабов застигает своего героя между прозрением и безумием в момент свершающегося возмездия.
Образ Ленина в сценарии ошеломляюще неожиданный. Поначалу его косвенная характеристика возникает из письма, которое в первом эпизоде читает человек в военной форме. Это Петр Петрович Паколи (Петр Петрович Пакалн, 1886–1937) — личный охранник Ленина в Горках — персонаж отнюдь не вымышленный. Петр Петрович добросовестно фильтрует все связи вождя с внешним миром, почту в том числе.
Слова автора письма бьют наотмашь: «Нужно быть последним скотом, чтобы сделать с Россией то, что сделал ты со своим каганом». Слово «каган» сразу отсылает к временам раннего средневековья, когда на громадных просторах Евразии ни России, ни Руси не было, а существовало государство Хазарский каганат. (Так, по крайней мере, утверждает Лев Гумилев.) Из письма неведомого автора можно узнать, что события происходят в 1923 году, и автор письма пророчит адресату смерть лютую: «...и умоешься ты своею кровью, как все умываются пятый год по твоей людоедской милости...»
Больной «людоед» обнаруживается «в спутанной шерстяной темноте». И рассказчик проникает «в оранжевые полушария» мозга, похожие на очертания континентов на географической карте. Теперь все обретает соразмерность: мозг, Евразия, каганат и «людоед».
Арабов никогда не называет своего героя тем именем, под которым знает его весь мир, но употребляет сначала партийную кличку «Старик», потом «господин вождь» — «Mr.fuhrer», так обращается к пациенту профессор. (Параллель с другим «фюрером» напрашивается сама собой). Жена и сестра называют его домашним именем Володя, а соратники — просто Ильич. Так что персона героя, каким бы одиозным он не выглядел с первых строк повествования, не вызывает сомнения — это Владимир Ильич Ульянов-Ленин.
Когда к больному приходит доктор, он проявляет все признаки здравого ума, разговор ведет по-немецки, над лекарем подтрунивает: «Вы даже диагноз не можете поставить, а говорите о какой-то надежде!» Доктор держит оптимистичный тон, называет пациента «интеллектуальным атлетом» и утверждает, что его натренированный мозг развит, как мускул, поэтому на выздоровление отпускает 2-3 месяца и даже предлагает тест: «Вы выздоровеете, когда сможете умножить 17 на 22».
«Боже правый! Что я несу!» — мысленно восклицает в этот момент лекарь. Ужас положения профессора в том, что симптомы болезни, которые он наблюдает, означают смертельную опасность не только для пациента, но и для него самого — расстрел либо поражение в правах и ссылка. Причем при любом исходе болезни. А цифры выплыли из глубин подсознания: с 1917 по 1922 — первая и последняя трудовая пятилетка Ленина на посту руководителя государства.
Сцена с доктором наполнена авторской иронией. Она кроется в анекдоте о пациенте, который жил с гвоздем в мозгу, и в диком парадоксе, что «можно жить вообще без мозга».
Врач, кстати, фигура тоже вполне реальная — Валентин Викентьевич Крамер (Василий Васильевич Крамер, 1876–1935) — один из множества отечественных и зарубежных светил медицины, которых привлекало советское правительство для пользования государственного больного.
Следом за врачом приходит Надежда. Не та, которой нет, а та, которая есть — супруга, его единственный верный друг и добросовестный секретарь. Она покорно читает необходимую литературу, делает выписки. Сейчас, например, больного интересует тема телесных наказаний в царской России.
Тему эту вождь затребовал неспроста, гвоздь в его мозгу называется «террор», и интересуют его даже не столько сами телесные наказания, сколько психологические последствия террора. Мозг работает напряженно, слишком много цифр: детям от 10-ти до 15-ти лет — только розги; от 15-ти до 17-ти — только плети; старики с 70-ти лет иногда освобождаются от истязаний... А как умножить 17 на 22 он не знает и впадает в истерику...
Все же вождь явно не здоров!
В следующем эпизоде автор прибегает к своеобразному фокусу — использует искаженную оптику, чтобы выявить некоторые скрытые смыслы в происходящих событиях. На пороге дома Ленина, отправляющегося на охоту, поджидает фотограф, и рассказчик, любопытствуя, заглядывает в окуляр фотоаппарата. «Мир предстал передо мной перевернутым и искаженным». Шофер, помогая хозяину сесть в машину, хвалит его красивое ружье, и тот охотно отзывается: «Его подарили мне сормовские рабочие». Но на самом деле нет никакого ружья, как нет и пролетающей дичи, а есть воображаемая охота прямо из проезжающего авто. Однако все подыгрывают больному, никто в доме не делает попыток вернуть его в реальность.
Добравшись до живописной поляны, шофер относит больного под раскидистый дуб и оставляет вдвоем с женой. Теперь вдали от дома события как бы обретают естественную реальность. «В кроне дуба кипела бурная невидимая жизнь... Там была абсолютно теплая тишина, это была тишина не смерти, но могучей и гармоничной жизни». А под дубом два далеко не молодых человека, обнявшись, говорят о смерти. Он удручен приближающимся концом, что «мироздание сопротивляется и вечность подготавливает нам глубокую яму!» Его раздражает кипение жизни вокруг, которое продолжится даже тогда, когда его не станет. «И ветер будет дуть, и солнце вставать, как тысячу лет назад. И пролетариат будет так же воевать с буржуазией...» И даже она — верная подруга — будет жить. Таково ее решение — «чтобы продолжить ваше правое дело...».
Как великий человек (а Ленин ни на секунду не сомневается в своем величии) он должен уйти достойно. Например, чета Лафаргов — «два старика, два трупа... рука в руке». Красиво. Достойно. Итак, решение принято, она обещает поспособствовать добыть яд, и они отправляются обратно.
День больного спланирован бдительным начальником охраны. После прогулки положены встречи и приемы. Что может быть трогательнее на страницах истории, чем визит юных «ходоков» с букетом полевых цветов. Однако у больного к детям отношение брезгливое. «Наверное еще вшивые». Оставшись в кабинете вдвоем с Паколи, хозяин выказывает гнев: «Вы хотите, чтобы я вас расстрелял? Кого вы ко мне зовете?..» Но охранника угроза не пугает, и он предупреждает, что будет еще один гость.
Автор не называет гостя по имени, но сомнений нет, что имеется в виду Сталин, который чаще других членов Политбюро навещал Ленина в Горках. Гость вручает подарок от соратников — тяжелую палку с крючковатой ручкой.
Два товарища по борьбе начинают свой лукавый разговор. У хозяина претензия — телефон молчит и никто не пишет. У гостя готов откровенно лживый ответ — на линии диверсия, а соратников всех до одного закосила повальная болезнь. Затем хозяин направляет разговор к единственной теме, которая гвоздем сидит у него в мозгу: «насилие — единственный рычаг, позволяющий решать крупные исторические задачи в ограниченно-сжатые сроки». Гость полностью согласен.
Следующая тема, которая волнует хозяина, — яд. Сталина просьба Ленина нимало не смущает. Он обещает обсудить просьбу в ближайшее время с Политбюро. Визит Сталина оставляет такое впечатление, что приезжает он только для того, чтобы каждым своим объятием по капле выжимать из больного Ленина энергию и жизнь.
Когда гость уехал, хозяин выходит к обеденному столу с недоумевающим тревожным взглядом: «Кто это был?» Женщины переглядываются.
В поведении больного начинают проглядывать тревожные симптомы, нарастает раздражение — не слишком ли шикарно устроен их быт, обедают в зимнем саду, едят на мейсенском фарфоре серебряными ложками. Атмосфера за столом густеет, как туман за стеклянными стенами оранжерейного рая, и наконец, взрывается: «В то время как народ вымирает, мы утопаем в роскоши! Мне стыдно, стыдно!..».
Волна безумия накрывает больного, и он, не сознавая что творит, крушит подаренной палкой все, что подворачивается под руку. Потом наступает тьма.
Из глубины подсознания появляется маленькая седенькая старушка-мать и с нечеловеческой силой трясет его за грудки: «Отстань от людей, мучитель!..Хватит!..» Гостья насильно вытаскивает его из постели и подводит к черному окну. Он глядит в бездну — там ничего нет! Она же возражает: «Там дело твоих рук!..» Больной в ужасе забивается в угол у подоконника, прячет лицо и затыкает уши, но голос все равно пробивается в его мозг, может быть, это говорит уже не мама, а сестра оттуда, из другой реальности: «У нас нет ничего. Ни близких, ни друзей, ни дома!.. Мы потеряли свою жизнь, Володя!» Он пытается оправдаться: «У меня есть История». Но в ответ слышит только горький смешок: «У тебя есть болезнь». Однако мама бывает не только беспощадной, она способна посочувствовать и посоветовать: «Зачем навязывать людям свою волю? Пусть живут, как умеют...», а заодно подсказывает, как умножить семнадцать на двадцать два. Прибавлением. Вместе со слезами к больному возвращается сознание.
Он хватает непослушными пальцами карандаш и начинает упорно писать цифры 17+17, лихорадочно высчитывая, сколько времени понадобится, чтобы закончить вычисления. Но все равно — путь открыт и яд отменяется.
После приступа, когда больной сидит в кресле перед домом, сквозь пелену тумана ему навстречу, как проблеск надежды, проглядывает бледное солнце, а в доме вдруг раздается телефонный звонок. И именно в этот момент Ленина охватывает ужас неминуемого конца. Наступает прозрение, но не раскаяние.
Художественный мир Арабова невероятно притягателен своими философскими глубинами, его язык и весь образный ряд повествования принадлежат не прозе, а поэзии.
«Приближение к краю», звучит как «приближение к раю», и не во все глубинные смыслы этого текста мы еще проникли. Продолжим.
Символика внешних событий в сценарии прочитывается следующим образом: ночная гроза с громом и молнией — голос Неба. Дети, которых автор сравнивает с птицами и ангелами, посланы больному с целью напомнить о Рае. Мать в последнем сне приходит из другой реальности, где пребывают отец, Саша и Оля. А ему — Володе — туда путь заказан пока не научится думать не головой, а сердцем.
Место действия в сценарии — сны больного и явь его существования. Но и она подобна снам, полна скрытых смыслов, которые не получили отражения в фильме. Там другие смыслы, и о них — отдельно.
Слова матери «Ты же ничего не понимаешь...живешь, как в бреду!..» подчеркивают размытость границ между двумя параллельными мирами: миром историческим, конкретным, в котором ее великий сын хочет построить земной рай, и миром иным, в котором это деяние оценивается не как подвиг, а как злодеяние, потому что невозможно сочувствовать человеку, который считает себя вправе, насильственно захватив власть, «осчастливливать людей», которых он к тому же не любит и не понимает.
Народ для него — дикари, «русский тютя». Загнать в рай его можно только насилием. В беседе со Сталиным Ленин сравнивает народ с трухлявым деревом на пути прогресса, под которым прорастает свежая трава по имени «пролетариат». Ради этой поросли, которую увидел Маркс, затеял свою преобразовательную миссию Ленин. Кто из юных дикарей не прорастет травой-пролетариатом — обречен. А они не прорастут, ибо их природа иная — они птицы небесные.
Ленин видит свою историческую миссию в том, чтобы осчастливить человечество, только человечество его на это не уполномочивало. Он сам назначил себя великим и сам определяет свое место в истории рядом с Марксом и Энгельсом, Лафаргом и Лассалем, Фейербахом. Последние пять лет глава нового государства трудится на ниве построения земного рая и любит смотреть в зимнем саду фильмы «Волховстрой» и «Годовщина Октября», запечатлевшие первые успехи его великих деяний.
В то же время другой образ советской действительности видится ему в первом кошмарном сне — бесконечно длинный казенный полутемный коридор, наполненный неопределенными голосами и звуком шаркающих по паркету сапог. Безликий, бесчеловечный, бессмысленный.
После разговора со Сталиным становится ясно, что затея с построением земного рая существенно отдает авантюризмом. Оказывается, Ленин не имеет продуманной теории подобных преобразований. Вся его историко-политическая терминология, которой он потчевал соратников и пролетарские массы, суть — «дичь» и «вермишель». Не было и нет обдуманного плана, есть только очертание цели на ближайшие 5-7 лет и жгучая до зубовного скрежета ненависть к прошлому России, которое надо уничтожить и силой втащить страну в туманное будущее. А ведь ненависть — самое непродуктивное, самое разрушительное чувство. И процесс разрушения уже идет там, где возникает, — в сознании героя. Он живет в искаженном, перевернутом мире, окруженный болотным туманом, и мысли его подобны болотной слизи.
Образ потерянного рая связан с музыкой, мамой и детством. Только музыка способна вернуть спящему «людоеду» человеческий облик. Он очнулся от первого кошмарного сна благодаря музыке, проснулся и вспомнил, что «в раннем детстве, когда лил дождь, мне всегда слышалось музицирование. Мать говорила, что это поют ангелы, но их слышать могут только дети...» Теперь он взрослый и о маме вспоминает с иронией, в ангелов и Бога не верит, а верит в волшебную силу электричества в деле преобразования мира.
Для взрослого Ленина детство имеет совершенно другую коннотацию: убитые кошки, подбитые птицы, жестокость и бессмысленное насилие, непослушание и телесные наказания «по розовым ляжкам, по бессильным ручонкам, по филейным местам...» А насилие должно быть осмысленным и целенаправленным.
С момента разрыва с матерью (даже на могилку не ходил с 1918 года — упрекает сестра) у него атрофировался орган духовного восприятия, связывающий человека с Богом. О Боге он размышляет, выстраивая в уме силлогизм: если Бог-отец, то плохой отец, потому что не исцеляет его — своего великого сына. Поэтому больной очень обижен на творца и жалеет себя, умирающего, безмерно.
Второго гостя больной тоже не распознал. В сценарии есть весьма красноречивая деталь: когда Сталин, выйдя из дому, снимает сапоги и с удовольствием топчется босыми ногами по травке, автор обращает внимание на то, что «ногти на его ногах были желтыми, аккуратно остриженными. Два пальца на одной срослись». В народном поверье эта физическая особенность является знаком сатаны. Но больной не узнал в госте ни посланца из бездны, ни даже генерального секретаря партии, потому что живет в искаженной реальности.
В сценарии принципиально важна странная оптическая призма странного рассказчика, отражающая приметы смерти там, где должна быть жизнь и живое в неживом. Дом, например, еще подает признаки жизни. «Создавалось впечатление, что сам дом молчит, будто боится обнаружить свое присутствие перед разбушевавшейся стихией». Рассказчик отмечает «некое дрожание в пространстве дома» при звуках фамилии Маркса. «Зверь-людоед» обосновался в мохнатой темноте, он не чует жизни, но чует смерть, от него распространяется морок тумана, искажающего реальность, стирающего грань между сном и явью, между миром людей и не людей.
Арабов намеренно насыщает свой текст лексикой из мира животных. Паколи имеет сходство с волком, а доктор Крамер — вылитый рак, жену больной ласково называет «моя минога», а сестра вождя Мария похожа на веселую обезьянку, такая же цепкая.
Приезжему гостю не дано сравнения ни с каким животным, он — нелюдь: лицо имел «темное и покатое, как вареное яйцо, очищенное от скорлупы. <...> кожа на лице как бы кипела, вернее, это кипение было остановленным, застывшим, будто снятая с огня каша».
А вот машина, которая везет больного на охоту, «бурчит и чертыхается, как человек», автомобили, везущие гостя и его свиту, похожи на жуков. Можно даже сказать — на навозных жуков, потому что у дома их поджидает коровья лепешка, в которую ненароком вступил Паколи. Навоз, наверное, производят беседующие хозяин и гость.
— У меня к вам куча вопросов, этакий мусор, который нужно превратить в навоз... — начинает разговор хозяин.
— И у меня к вам куча... — неопределенно произносит гость в ответ.
Стало быть, мозг больного, мышца, вырабатывающая мысль, на самом деле вырабатывает словесный мусор — «вермишель», навоз.
Весь образный строй текста Арабова подводит нас к выводу: реальность без Бога — перевернутый мир, где все наоборот. Но мы видим также, что спор героя с Богом не столько религиозный, сколько философский.
«Через судьбу человека говорит Бог», — охотно делится своими размышлениями писатель в одном из интервью. — «Судьба подчинена причинно-следственным связям, которые определяются понятиями добра и зла, табуированным в традиционной культуре. Наши добрые и злые дела имеют продолжение на небе и на земле и имеют своих инспираторов. <...> Через эту связь говорит и черт, и Бог».
О личном мистическом опыте в духовных поисках Арабов признается в интервью Ладе Ермолинской: «Я Христа никогда не видел, но, как мне представляется, временами чувствую Его присутствие» [1]. Говорит, что живет «конфессионально неоформленным». Сокуров открыто не подчеркивает свою религиозность.
Наверное, можно говорить о некоем собственном мистическом богословии этих художников. Они исследуют жизнь в религиозно-философском ключе, базируясь на личном духовном опыте. Структурообразующим принципом их картины мира является неизбежность смерти как универсальный космический закон, действующий внутри мироздания.
В философских воззрениях Сокурова и Арабова нам видится оригинальный замес из русского экзистенциализма и японского буддизма, которым Сокуров увлекся в 1995 году. В этот период он находится не только под влиянием Тарковского, что не раз отмечали критики, но и одного из «отцов японского кинематографа» Ясудзиро Одзу (1903–1963). В контексте наших размышлений в данной работе особый смысл обретает японский цикл Сокурова.
Вот некоторые размышления, на которые навели труды А. В. Чебунина [10, 11].
Буддизм — религия не веры, а опыта, он объединяет в себе религию, философию, психологию и охватывает всю сущность человека целиком. Философия буддизма весьма привлекательна для человека, томимого духовной жаждою. Таких в девяностые годы в России было довольно много, особенно среди творческой интеллигенции. Философия буддизма предлагает человеку некий «срединный путь» саморазвития и самопознания, включающий восемь ступеней: правильное понимание, правильные намерения, правильную речь, правильные поступки, правильную жизнь, помыслы и усилия, правильную сосредоточенность. Наших художников, по-видимому, в то время привлекал личностный аспект этой философии и то, что в ее основе лежит нравственный мировой порядок и принцип возмездия.
В буддизме нет идеи вечной души в христианском понимании, души, искупающей грехи, а есть Карма. Человек продолжает свое существование не в силу бессмертия души, а в силу неуничтожимости его дел. Т.о., карма понимается как действие тела, речи и ума, обусловленное мотивацией, и означает конкретное воплощение закона возмездия или вознаграждения за конкретные дела. В то же время карма понимается как нечто субъективное, поскольку создается самими индивидами.
Возвращаясь к образу Ленина, отметим, что в философско-религиозном аспекте он застигается между жизнью и смертью. В свое время Достоевский обозначил это состояние словом «бобок», в буддизме это Бардо.
Когда человек умирает, его сверхтонкое сознание выходит из тела и пребывает в некоем «промежуточном» состоянии между жизнью и новым рождением. Оно напоминает состояние между сном и явью. Бардо умирания начинается с момента осознания своей конечности и продолжается до момента нисхождения осознания Ясного света смерти, когда сознание отделяется от тела. В состоянии Бардо человек может пребывать от 7 до 49 дней, а потом непременно обретает новое рождение.
Главной загадкой сценария Арабова является образ рассказчика. На первый взгляд, его можно назвать лирическим героем. Можно подумать, что художественный прием Арабову подсказал А. И. Куприн, который был первым из немногих авторов, кого занимала тайна сознания Ленина, насколько здоров был его интеллект до 1922 года. В 1918 году Куприн воспользовался оказией, чтобы попасть на прием к вождю. «В первый, вероятно, в последний раз за всю жизнь, — признается писатель, — я пошел к человеку с единственной целью — поглядеть на него» [3, с. 308]. В коротком очерке «Ленин. Моментальная фотография» есть такие слова: «Ночью, уже в постели, без огня я опять обратился памятью к Ленину, с необычайной ясностью вызвал его образ и... испугался.
Мне показалось, что на мгновение я как будто бы вошел в него, почувствовал себя им» [3, с. 312].
И все же такая трактовка образа рассказчика не отвечает на все вопросы, особенно связанные с его поведением. Например, с таким: «Карандаш выпал из руки больного и покатился по полу.
— Подайте, пожалуйста, — обратился он ко мне. Я поднял карандаш с пола и подал ему».
Перечитаем в новом ракурсе начало текста Арабова и попробуем ответить на вопрос, кто же все-таки этот загадочный рассказчик, от имени которого ведется повествование.
«Чей-то крик разбудил меня ночью и я пошел на него. Сначала ничего не было видно. Несколько слоев облаков, как листья капусты, обволакивали землю сплошным глухим покровом. Между "листьями" кипела вода, и пространство внизу напоминало болото, − ступишь, думая, что кочка, но провалишься вниз в холодную вязкую вату. Не нащупав тверди, будешь опускаться все ниже и ниже, без надежды на спасение, без опоры и без сил, чтобы закричать.
После молнии короткой, как крик, передо мною в одно мгновение возникла земля. Огромная, с придвинутыми к глазам подробностями, так что я видел каждую отдельную травинку, прижатую вниз массой дождя, каждый случайный камень, любой ноздреватый корень, вырывающийся из почвы, словно застывшая змея».
Тут внимательного читателя охватывает чувство дежавю: где-то мы это уже видели. Ну конечно! Так почти буквально начинается «Восточная элегия» (сценарий писал сам Сокуров).
«…Все как во сне… Я вижу облака… туман… сосновый лес… Мне кажется, что меня кто-то позвал…
Темный лес, белые стволы берез... Нет, никого нет… В море появился остров… Из ничего, из соленых брызг и пены, из чьего-то желания. А на острове появляется лестница — и путь наверх по ее каменным старым покусанным ступеням… И вот я уже на острове… Старая каменная лестница… Тишина, земля мягкая, как тесто... И на меня из травы, по-детски задрав голову, смотрит мальчик-Будда… Звуки, звуки… Я взмахнул крыльями и полетел над лесом. И над туманом...»
Вот оно: то же визуальное пространство — зыбкая дрожащая картина, словно марево, и автор-рассказчик блуждает в своем сне, и остров в тумане, и дом, и тема одиночества и смерти. Даже та же лексика.
Однако в сценарии Арабова герой-рассказчик не лирический герой, не «альтер-эго» автора, а существо иного рода. Оно рождается от вспышки молнии и врывается вместе с ветром через форточку в одно из освещенных окон Большого дома.
Зовут его Гандхарва. Это некая психическая структура в виде самостоятельного существа, оно имеет облик тела, в которое придется воплотиться. Оно существует до формирования зародыша новой жизни, выступает как носитель кармической информации, как «семя будущей жизни». Существо имеет 5 органов чувств, обладает ясновидением, беспрепятственно проходит через любые плотные объекты, способно перемещаться в пространстве со «скоростью мысли», читает мысли обычных людей.
Этот персонаж по праву является вторым главным героем произведения, в прямом смысле — действующим лицом, он представляет собой разительный контраст первому — Ленину. Он способен сочувствовать и сопереживать другим, а вождь, напротив, испытывает жалость только к себе.
Первое духовное соприкосновение Гандхарвы с больным «людоедом» — жест милосердия: «Чтобы скрасить его болезненный бред, я решил напомнить ему музыку, которую он любил, Бетховена, сонату, опус 13 до-минор "Pathetigue"...» И Бетховен, действительно, производит целительное воздействие: из-под век спящего потекли слезы и он просыпается. К санитару обращается вежливо:
— Дайте, пожалуйста, пить.
А вот и явные признаки «бардо». Знающие люди отмечают внешний знак этого состояния — слабость тела, сухость во рту, жажда; внутренний знак — ум теряет способность ясно мыслить, раздражительность, дискомфорт; тайный знак — явление переживаний, напоминающих видения.
Как видим, Гандхарва способен не только проникнуть в сознание человека, но и «похозяйничать» там. Его внедрение в сознание больного не вызывает у него мистического ужаса, иногда он даже отвечает.
«— Спросите у него, зачем он назначает повсюду своих людей, — подсказал я.
— Это не факт, — ответил больной.
— Что? — встрепенулся приехавший.
— Да мне здесь нашептывают. Всякие доброхоты. Про вас. Зачем и почему...»
После визита детей Гандхарва прислушивается к шуршащим мыслям хозяина: «Что хуже, ребенок или зубная боль? Хуже, конечно, ребенок». Больной равнодушно вспоминает своих умерших братьев и сестер: две Ольги, один Николай... и Саша.... Смерть младенца Николая, наверное, никто, кроме матери, не заметил. Сейчас он очень доволен, что у него нет своих детей. И тут Гандхарва спрашивает: «Разве вы не вспоминаете детство как потерянный рай?» «Нет», — отвечает вождь, ничуть не удивляясь невидимому собеседнику.
Вот теперь, когда мы узнали Гандхарву, все становится на свои места. Понятно, как удается ему видеть то, что недоступно зрению простого смертного, будь он даже поэт. Конечно, это существо прислано из другой реальности, где действует закон кармы и закон перевоплощения. Бледное солнце, проглянувшее сквозь пелену, в финале озарило сознание Ленина Ясным светом смерти. Нечеловеческий крик, вырвавшийся из груди больного, а крик именно нечеловеческий («А-а! — завыл он») означил прозрение, и тогда «издалека, из чащи леса ему ответил невнятным звериным воем то ли волк, то ли собака».
И тут выплывает из памяти радищевское «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй». Вернее не радищевское, а Тредиаковского. Как известно, в качестве эпиграфа к своему «Путешествию из Петербурга в Москву» Радищев взял строку из эпической поэмы «Телемахида» (1766). И чудище в этой поэме — Цербер — трехглавый пес, охраняющий вход в Тартар, в то место, где находятся цари за злоупотребления властью. Они там постоянно смотрят на себя в зеркало и видят чудовищ. Радищев немножко подредактировал Тредиаковского, у которого чудище «с трезевной лаей», т.е. пастью. А Радищев, для усиления аллегорического изображения государственного строя в России поменял трезевную лаю на стозевную, чтоб подчеркнуть многоликость зла. Наверное, Арабовского Ленина зовет Цербер...
Киносценарий «Приближение к краю» в свое время получил ряд престижных премий: «Нику», «Золотой Овен» и Государственную премию РФ. Режиссер Сокуров высоко оценивает талант своего друга и коллеги. «Юрий Арабов обладает уникальным сочетанием мощного интеллекта, тонкой художественной интуиции, грустной иронии и страсти. По правде говоря, использовать его талант в кинематографе — все равно что хрустальной вазой забивать гвозди. Как правило, кино не нуждается в таком уровне культуры и литературного мастерства. Его сценарии самодостаточны. Это полноценные произведения, это искусство. И даже не столь важно, снят сценарий на пленку или нет» [7].
Высоко оценивая художественные достоинства сценария Арабова, Сокуров все же подходит к нему, как к драматургической основе фильма, как к базовому материалу, на основе которого он строит свое киноповествование, со своим идейным содержанием и со своим образом главного героя.
Сравнивая художественный текст фильма и сценария мы видим довольно основательные изменения. Например, изменилась коннотация образа Ленина, теперь он не «зверь-людоед», а травоядный телец. Из фильма ушла тема рая. В названии читается совсем иной амбивалентный дуализм языкового знака: не «край» и «рай», как у Арабова, а телец — символ поклонения и символ жертвоприношения, в нем сила и слабость одновременно.
Главный герой В. И. Ульянов-Ленин, создатель государства СССР, родился под зодиакальным знаком Тельца. (Солнце проходит по этому созвездию с 21 апреля по 21 мая.) В греческой мифологии Телец — это Зевс, который превратился в животное, чтобы похитить красавицу Европу. В другом смысловом ряду образ тельца связывается с библейским золотым тельцом, которым народ заменил себе подлинного Бога и стал ему поклоняться.
Режиссер дает свое объяснение образа: «Телец и тело — однокоренные слова. Телец — кусочек тела, бремя тела. Оно отомстило вождю распадом за унижение, за сладостный интерес к телесным наказаниям. Именно тело делает человека существом предельным и конечным, оно ограничивает человека, рвущегося к беспредельности и бесконечности».
В фильме в иное русло направлена тема террора и насилия, она вязнет и растворяется в теме распадающегося тела. На первый план выходит тема несвободы. Ленин (арт. Л. П. Мозговой), да пожалуй, его жена (арт. М. В. Кузнецова) и сестра (арт. Н. А. Никуленко) — пленники Большого дома. Их охраняет бессчетное множество вооруженных чекистов. Абсурдность ситуации в том, что дело не стоит таких усилий: больной пленник слишком немощен и не способен самостоятельно передвигаться. Как метко выразилась Т. Н. Толстая — «он недоумер, он еще корчится» [8, с. 275].
В рецензии Толстая пишет «В фильме насилие становится главной частью его быта и бытования: его насильно моют и пеленают, кормят... и газету не дают, и телефон отключили. Близкие держат его живым, чтобы кормиться вокруг него, чтобы загораживаться его живым трупом от той новой страшной нетерпеливой силы, которая обложила дом, притаилась за деревьями и ждет своего часа. Потому что после него придет и их черед» [8, с. 275].
Из фильма ушел весь буддийский философский пласт, обнаруженный нами в сценарии. Герою грозит не перевоплощение, а мумифицирование. Перевоплощение оставляло хотя бы отдаленную надежду на иную форму существования, мумифицирование же не оставляет никакой надежды. На вой героя в финале отвечает не собака, а коровье мычание.
И телефонного звонка в фильме Ленин не слышит. И звонит не Бог, а «из ЦК звонят... из ЦК...» — надрывается спешащая дворничиха, и торопит с балкона Паколи задыхающуюся Надежду. Такой финал фильма беспощаден и саркастичен.
Гротескные саркастические нотки есть и в сценарии, но в фильме они переакцентированы на другие образы. Развернутый в сценарии образ навоза снивелирован. Вместо короткого эпизода с коровьей лепешкой, введена сцена нелепой драки Паколи с фотографом. К гротескной драке подключается дворничиха с метлой, еще какие-то люди, в сутолоке Ленина прижимают к дверце машины, на его вопли никто не реагирует.
Сцена погрома в оранжерее и написана, и снята с гротескными красками. В сценарии есть красноречивая деталь, подчеркивающая абсурдность ситуации. От удара палкой внезапно заработал кинопроектор. «Закрутились бобины. На пальмах возникло вдохновенное лицо Троцкого. Он что-то взволнованно говорил. И конница поскакала куда-то в заросли...»
В фильме Ленин, как лев, яростно сражается с тюремщиками, беспощадно лупит палкой доктора, Паколи, всех, кто подвернется, и сражается до последнего момента, пока его, запеленутого в простыни и скатерти, не выносят вон.
Символика и мистика сценария заменена демонстративным погружением в быт и окрашена сарказмом. В связи со сменой оптики изменяется трактовка образов. Дом, например, совсем не живое уютное дворянское гнездо, а неудобный для проживания запутанный лабиринт из комнат и лестниц, темных уголков, из которых постоянно подсматривают бдительные тюремщики. Дети — не ангелы и не стая голубей, а «шпана» (так называет их Паколи). Жена уже не «минога», а «корова» (вспомним сцену, когда она неловко причиняет мужу боль, переползая по кровати, чтоб рассмотреть, как санитар обрезает ему ногти на ногах.) На лугу Ленин говорит о последней битве, ему «мироздание сопротивляется», а у жены другая беда — чулки совсем порвались... Супруги уже живут в разных системах координат.
Умирающему больному противопоставлен витальный мир в картинах природы, в кружевном цветении поля, в тривиальности быта обитателей дома, в образе Шурочки. Но Шурочка не может заменить Гандхарву, хотя при всем своем наивном простодушии она способна прозревать простые истины: «Здесь все такие злые...», «никто вас здесь не любит...»
Тривиальность повседневного хода жизни с простодушным весельем молодых обитателей дома противопоставляется физиологическому плану умирания, разрушению плоти главного героя.
Вместо мудрого взгляда Гадхарвы — взгляд кинокамеры, которая зачастую уподобляется беспристрастному видеонаблюдению. По композиции кадра у зрителя порой создается впечатление, что самое главное происходит с героем за кадром, а камера выхватывает случайные моменты. В то же время зрителя завораживает странная многомерность континуума фильма Сокурова.
Смысловое поле фильма создается не за счет сюжетного действия, а обнаруживается в его пространственно-временном решении. В напряженном столкновении двух миров. Первый — витальный, вбирающий в себя повседневные хлопоты обитателей дома и зыбкую, загадочную и равнодушную природу, а второй метафизический — внутреннее пространство умирающего героя, оно эмоционально насыщено тоской и беспомощным бунтом.
Снимая «Тельца», режиссер отказался от оператора как посредника между собой и зрителем и взял на себя функцию изобретателя новых возможностей киноязыка. «Изобразительное решение в моих фильмах — это значительная часть режиссерского замысла». Сокуров разрушает традиции визуальных нормативов, вводит сверхдлительность одного плана, усложняет систему идентификации точек зрения, использует полностью темный кадр, наплыв и укрупнение крупного плана, вплоть до остановки. Стоп-кадр в финале — это без сомнения смерть Ленина.
В «Тельце» Сокуров пытается визуализировать образ времени через пространство. Он не просто замедляет и останавливает развитие действия, а пытается уничтожить условность времени и перевести его в визуальный план, а зрительское восприятие перевести в режим внутреннего созерцания, сродни медитации. Кто не попадает с ним в резонанс, тот может заскучать.
Наверное, режиссер остался неудовлетворенным полученным результатом. В одном интервью он делится следующим размышлением о времени: «Этой категории не надо касаться, ее не надо изучать, она должна быть заповедана и таинственна... Время есть образ бесконечности» [5, с. 31].
Основной строительный материал визуального ряда фильма — слияние документального и живописного стилевых течений. Пространство в основном погружено в тень сумеречного дня и сумерек жизни умирающего героя. Света мало, зачастую кадры полностью затемнены, и тогда острее воспринимаются вспышки света и белого цвета. Например, подчеркнутая белизна колонн особняка и белый плащ приехавшего Сталина.
Сокуров всегда очень обдуманно подходит к цветовому решению фильма. В «Молохе», например, сквозной нитью через весь фильм проходит символика небесного голубого цвета, в «Тельце» основной цвет сложный — разбеленная зелень — колорит, несущий в себе контраст — зеленый — цвет жизни и одновременно цвет плесени и тлена. Живописность визуального ряда, напоминающего «Восточную элегию», постепенно сменяется холодной беспристрастностью фотографии. Изысканная графики кадра превращается в кино- и фото- документ.
Визуальный ряд с его долгими планами превалирует над скупым текстом. Внутренние монологи героя сведены к путаным обрывкам мыслей. В бытовом общении других героев много актерского импровизированного текста. Основательную эмоциональную нагрузку берет на себя саундтрек. Он создает своеобразную акустическую атмосферу, вбирая в себя звуки природы, шум ветра, пение птиц, говор людей. Все это противопоставляется трагическому молчанию, вернее — мычанию — мучительному безъязычию больного. Музыка звучит изредка под сурдинку. Любопытно, что режиссер полностью сменил музыкальный фон, рекомендованный Арабовым: в сценарии — Бетховен, Вагнер, что-то из «Лоэнгрина», в фильме — вариации на темы Рахманинова, разработанные композитором Л. Сигле. Им найден изобретательно «препарированный звук» рояля, чтоб передать надлом и вымученность звука, соответствующий состоянию героя.
Критик Ямпольский, анализируя поэтику фильма, находит в фонограмме ключ к пониманию контекста и утверждает, что «фонограмма царит над всей многослойностью» фильма как «носитель высшего знания».
Образ Ленина в фильме Арабова и Сокурова далеко отходит и от «дедушки Ленина», и от «матерого человечища» первой половины XX века, и от их карикатурных двойников, которыми забавлялись режиссеры в девяностые годы. Создатели фильма «Телец», безусловно, снижают образ Ленина, но не унижают его ни как личность, ни как политика. Они показывают трагедию умирающего человека.
Возвращаясь в русло наших рассуждений, подчеркнем все же разницу. У Арабова в сценарии Ленин не умер. «Дело в том, что кровь Ленина — не остывшая, и от того, что он не захоронен, и от того, что проиграл в истории, и оттого, что до сих пор проигрыш этот кажется неочевидным. <...>
В то обрушение, которое произошло в 1991 году многие отказываются верить. Поэтому у нас по-прежнему звучит музыка прежнего гимна, постоянная апелляция к советскому времени. Так что Ленин — вообще опасная материя. Значительно более опасная и живая, чем Адольф Алоизович. Впрочем, и последний в качестве легенды питает души всякого рода мрачных романтиков» [2].
Если у Арабова Ленин скорее жив, чем мертв, то у Сокурова — скорее мертв, чем жив, как Гитлер. Но живы их идеи — нацизм и большевизм, они, как вирус, заразили человечество. Сокуров утверждает: беда не в Ленине и не в Гитлере, а в природе человека. «Человек умнее, злее и порочнее дьявола, без всякого сомнения. Нет границы, ниже которой способен опуститься человек, но есть граница, ниже которой так называемый дьявол не опустится» [6, с. 44].
Итак, вот что обнаруживаем в сухом остатке: фильм «Телец» звучит как назидание народам и правителям. Правителям: не стремитесь уподоблять себя Богу, все равно не получится в силу разноприродности. Народам: не сотворите себе кумиров из людей, они смертны.
«Мы не должны считать, что в человеке есть нечто отстраненное от него самого, выходящее за пределы жизни. Нет ни царей, ни вельмож — это все пена. И дьявола тоже нет. Есть только человек» [9, с. 37].
Мировоззрение Сокурова и Арабова объединяет глубоко пессимистическая концепция непобедимой власти смерти. При этом в их философии почти сакральный статус придается внутреннему миру художника, ибо только здесь возможна истинная свобода.
«Автор художественного произведения должен делать все, чтобы мы умели прощать и были всегда настороже. Потому что зло, творимое человеком, — самое страшное зло в мире, потому что оно неистребимо» [9, с. 37].
Взгляд Сокурова на современность довольно пессимистичен, он считает, что нацизм неистребим, большевизм неистребим... И, скрепя сердце, с ним приходится согласиться. «И Гитлер, и Ленин были мелкие люди, но сильны они были безнравственностью миллионов, которые их поддерживали» [9, с. 37]. Может, нам все-таки следует начать с себя пока не поздно?..