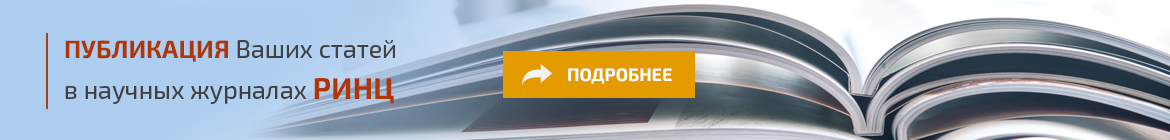Семантическая деконструкция образа-концепта «дом» как средство моделирования языкового образа страдальца (по материалам текстов русской литературы)
Конференция: XC Студенческая международная научно-практическая конференция «Молодежный научный форум»
Секция: Филология

XC Студенческая международная научно-практическая конференция «Молодежный научный форум»
Семантическая деконструкция образа-концепта «дом» как средство моделирования языкового образа страдальца (по материалам текстов русской литературы)
Антропообраз «дом», будучи ядерным, фоновым образом для гуманитарных наук, исследующих отражение человека в культуре, атрибутируется неоднозначно, многомерно, представляя органическую слиянность разных тенденций к объективации, в то же время капиллярную рассредоточенность попыток репрезентаций внутренней и внешней моделей. Так, в философии образ дома трактуется «как способ и цель бытия человека, как окружающий мир, который человек создал сам в своей культуре» [10]; в литературоведческой традиции данный образ, наделяясь структурно-семиотическим потенциалом, теряя антропологическую орбиталь, способен выступать объектом концептуализации – конкретной реализацией художественного пространства, хронотопа (например, бинарный архетипический образ бездомья в творчестве М.А. Булгакова) [3].
Наше лингвоантропологическое исследование ориентировано на атрибуцию образа дома («антидома») как одного из способов реконструкции языкового образа страдальца – квантовой единицы целостного образа человека, который, с одной стороны, воплощает все представления носителей национального культурного кода, овеществляемые языковой системой, с другой стороны, воссоздается целым комплексом мифопоэтических представлений [4, с. 12].
Целью данной статьи является попытка комментария процесса семантической деконструкции пространства дома как средства лингвокультурологического моделирования образа страдальца в контексте русской художественной картины мира. Исследование фактов смысловой коррозии концепта «дом», влекущей продуцирование концепта «антидом» произведено на материале текстов русской литературы последней трети XIX в. – начала XXI в., иллюстрирующих овеществленные, эксплицированные атрибуты страдания человека.
Семантический анализ дефиниции лексемы «страдалец» («человек, испытавший много страданий, переживающий мучения физические и духовные») [8] позволяет расчленить целостный образ человека, зафиксированный в словарном толковании, на две орбитали: внешняя и внутренняя. Исследуемый нами способ реконструкции (атрибуция вещественно-бытовых деталей, семантика которых направлена на продуцирование состояния горя, беззащитности, отчаяния, следовательно, и внутренних переживаний), несомненно, очерчивает внешнюю ипостась образа страдающего человека.
Итак, свойственные для страдальца мучительные переживания, терзания, безутешные стенания, мотивирующиеся ситуацией экономического, или социального, «дна», отпечатываются как на внешнем облике человека в виде суммы всех мучений, «рассеянных» в портретных деталях, так и на описании места пребывания человека, его локусе, границы которого конкретизируются пространством дома.
«Физиологическая» объективация вещественно-бытовых атрибутов, т.е. «корпускул» окружающей человека обстановки, домашнего интерьера, изображающих разруху, неустроенность, беспорядок свидетельствует о деформации привычного образа дома – места, где человек защищен, счастлив, чувствует гармонию, иначе говоря, полярен процессуальному состоянию мучений. Под подобной деформацией нами подразумевается семантическая деконструкция домашнего пространства, т.е. семисентенция на уровне контекста, которую можно атрибутировать следующими пропозитивными формулами: а) «дом – внутри дома не-домашние атрибуты»; б) «собственный дом не есть родной дом». Следовательно, концепт «антидом» - это образ дома, подвергнутый контекстуальной семисентенции, результат которой обнаруживается в антиномичной зеркальности домашнего – не-домашнего, родного – чужого, живого – мертвого.
Семантическая деконструкция домашнего пространства, являясь одним из средств репрезентации образа страдальца, не может быть унифицирована, поскольку сообщает каждому образу-«кванту» (семантическому блоку) неодинаковый потенциал страданий. В связи с этим необходимо подчеркнуть: исследуемый нами процесс смысловой коррозии реализуется в художественных текстах с разной степенью интенсивности.
Первый уровень семантической деконструкции домашнего пространства актуализируется при характеристике героев – «скрытых» («внутренних») страдальцев и предполагает минимальные «мутации» атрибутов интерьера: как правило, данные мутации ограничиваются присвоением предмету нетипичной функции. Примером подобного варианта продуцирования концепта «антидом» является кристаллизация мотива «утраченной игры», материализующегося в значимых дефектах периода детства – отсутствии игрушек, попытке подавить охоту к забавам: Ты чего балуешься, зачем очки дяди Семена одела?.. <…> Вот испортишь глаза и ослепнешь, а потом будешь иждивенкой всю жизнь проживать и на пенсии (А. Платонов); Мачеха засовывала ему [мальчику Ильке] сзади под опояску топор, завязывала шею полотенцем, закатывала рукава полушубка, и он отправлялся за дровами. (В. Астафьев); Мальчик умирал у своего колеса от наждачной пыли, дурного питания и непосильной работы. (Д. Мамин-Сибиряк) – Утраченная игра в данном контексте позиционируется как элемент, замыкающий детство, в то время как концептуальная мена непосредственно детских атрибутов (игрушек) рабочими инструментами взрослых (топором, вертелом) свидетельствует о преждевременной зрелости ребенка, о его пребывании во взрослом мире, воспринимающемся как «рабочий цех».
Второй уровень семантической деконструкции домашнего пространства оперирует лексическими средствами (лексемами, описывающими вещественно-бытовые атрибуты, т.е. детали окружающей обстановки, изображающие разруху, неустроенность, беспорядок) реконструкции состояния нищеты – одного из показателя страданий – и может быть сведен к первой формуле обозначенной выше контекстуальной семисентенции: Оба мальчугана давно успели привыкнуть и к этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, и к мокрым отрепкам, сушившимся на протянутой через комнату веревке, и к этому ужасному запаху керосинового чада, детского грязного белья и крыс – настоящему запаху нищеты. (А. Куприн); Все было разбросано и в беспорядке, в особенности разное детское тряпье. В самой же комнате было всего только два стула и клеенчатый очень ободранный диван, перед которым стоял старый кухонный сосновый стол, некрашеный и ничем не покрытый. (Ф. Достоевский); Он [мальчик] несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. (Ф. Достоевский) – Отметим, что смысловая коррозия данного уровня имеет более ощутимый «подавляющий» эффект, распространяющийся на людей, окружающих страдальца, поскольку имеет овеществленный суперпозитивный результат (вынужденное существование в помещении, антиномично противостоящем образу дома), инициирующий внешние (эксплицированные) и внутренние, душевные (обнаруживающие тенденцию к импликации) страдания.
Третий уровень процесса семантической деконструкции пространства дома предполагает интенсификацию концепта «антидом» кульминированием ощущения чуждости пространства паталогической особенностью его характеризации – камуфлированием лексемы «дом» и парафразной меной ее эвфемистическим оборотом, актуализирующим атмосферу отсутствия гармонии, непрерывных страданий: Теперь невозможно было представить, что они все втроем до сих пор спят в одной комнате, где и так не развернуться. Те первые месяцы, конечно, были ужасны (Р. Сенчин); Теперь им в этом покривившемся срубе жить, и, может быть, отсюда их с женой когда-нибудь понесут на кладбище. (Р. Сенчин) – Синтагматический распад локуса бытия доводится до высшей точки скрещением семантических полей «дом» и «смерть», соположением атрибутов жизни и смерти, что влечет неизбежную трансформацию пространства, окружающего страдающего человека: Да, это была яма, ее черное, беспросветно черное дно. Черное, как бревна их жилища (Р. Сенчин); Иногда казалось, что не выдержат, задохнутся в этом домике-склепе, перегрызут друг друга – теснота порождала ссоры, обостряла раздражение (Р. Сенчин).
Обозначенная нами мортализация образа дома венчается интертекстуальной ассимиляцией, имеющей фольклорную основу, мотивов трапезы (атрибут – стол) и похорон (атрибут – гроб), свидетельствующей об окончательном расподоблении образов дома канонического и страдальческого: Теткины подруги выполнили обещание – обмыли и одели ее в чистое. Все это происходило на кухонном столе (Р. Сенчин).
Деконструкция локуса «дом» прослеживается в репликах страдальцев, которые отказывают месту, где вынуждены пребывать, терпеть муки, в статусе дома: Утепляя пол, потолок, вынося из комнаты развалившийся стол <…>, Николай Михайлович не верил, да и не желал верить, что теперь это дом для его семьи (Р. Сенчин). – Полифоничным дополнением решительного неприятия страдальцем собственной участи (реализация второй формулы контекстуальной семисентенции) является амбивалентная синкриза «дом – свалка», очерчивающаяся в высказываниях в виде синонимизации парафразных элементов дихотомической антиномии: Но был нанят «ЗИЛ», контейнер заполнен тем, что составляло обстановку двухкомнатной квартиры, ненужные вещи оказались на мусорке, и водитель торопил ехать (Р. Сенчин); – Как назло, – ругнулся Николай Михайлович и торопливо, бережно, но и словно на свалку, понес в избу дорогую, не так давно купленную стеклянную тумбочку (Р. Сенчин).
Итак, процессы семантической деконструкции пространства дома и трансформации канонического образа «дом» в образ «антидом», заряженный физическими и душевными страданиями, могут актуализироваться следующими тенденциями: а) незначительной меной типичной функции атрибута пространства, окружающего человека; б) наделением пространства дома не свойственными ему атрибутами, воссоздающими атмосферу нищенского существования; в) мортализацией домашнего пространства, допускающей градуальность. В любом случае факты смысловой коррозии пространственной орбитали данного антропообраза свидетельствуют о стремлении человека, находящегося внутри этого пространства, к «страдальческому пантеону».